Социальный комплекс
// Социальный комплекс Местная районная организация «Головино» Московской общественной организации «ВОИ» 8-(495)-453-22-45
// Социальный комплекс Общественный Совет района Западное Дегунино Телефон: 8(499)487-92-58Факс: 8(499)487-92-58
// Социальный комплекс Общественный совет Тимирязевского района Телефон: 8-499-760-84-33Электронная почта: soc@tim. sao.mos.ru
sao.mos.ru
// Социальный комплекс Общественный Совет района Аэропорт Телефон: +7 (499) 151–6975
// Социальный комплекс Пенсионный фонд РФ Управление с обращением граждан Телефон: 8 (800) 505-55-55
// Социальный комплекс Пенсионный фонд РФ (управление №4) Телефон: 8 (495) 451-30-76
// Социальный комплекс Центр психологической разгрузки «Альфа» Телефон: +7 (926) 213-48-26Факс: +7 (495) 767-91-37Электронная почта: cpr@netstressov.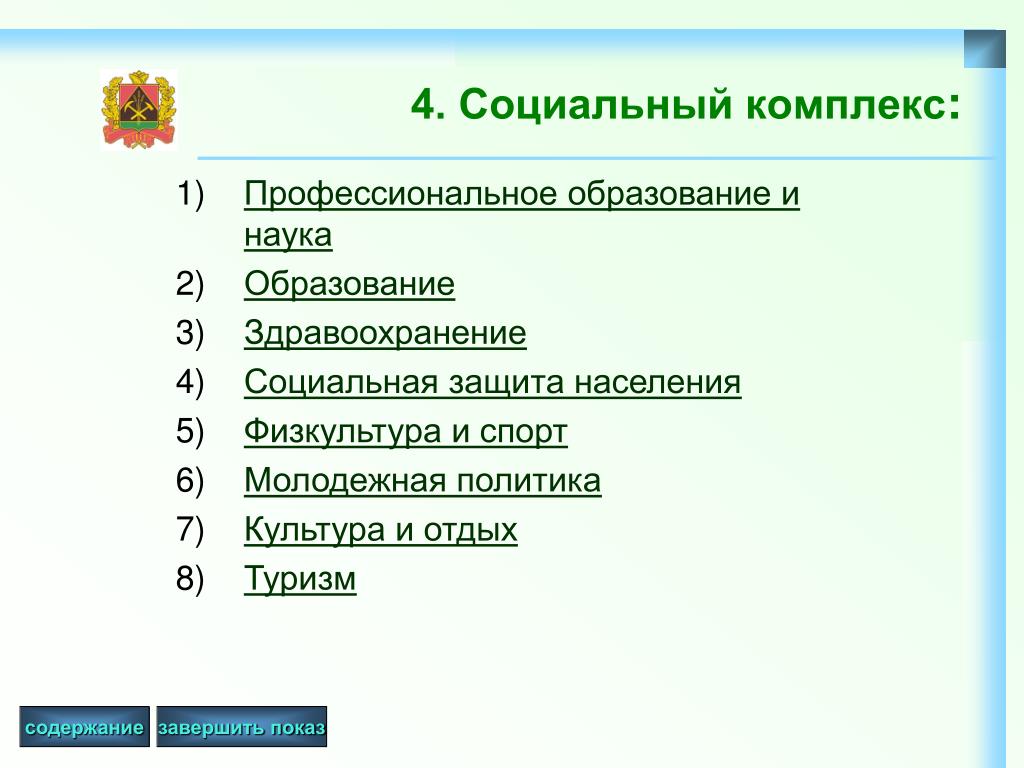 ruСайт: http://www.netstressov.ru/
ruСайт: http://www.netstressov.ru/
// Социальный комплекс
// Социальный комплекс Региональная общественная организация инвалидов c детства и их родителей «Всехсвятское» Телефон: 8(499)198-24-02Электронная почта: pishuginavm@yandex.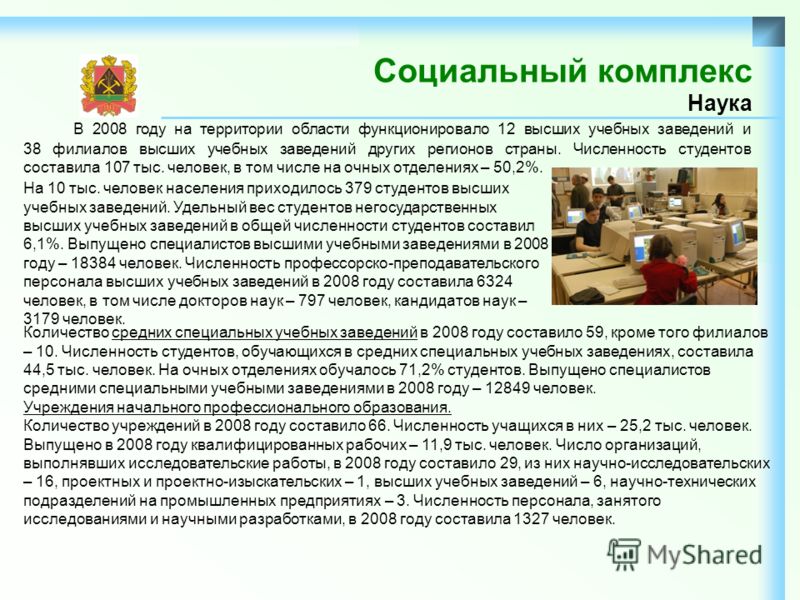
// Социальный комплекс Пенсионный фонд РФ отделение по г. Москве и МО главное управление № 5 Северного АО управление № 1 пенсионный отдел Беговой Телефон: 8-495-945-78-23
// Социальный комплекс
// Социальный комплекс ГУ ОПФР (пенсионный)
// Социальный комплекс Первичный Совет ветеранов № 6 (РЭУ- 6/2, ДЕЗ –29) Телефон: 8(495)484-17-20
// Социальный комплекс Первичный Совет ветеранов № 5 (РЭУ- 6/1, ДЕЗ –19) Телефон: 8(495)484-17-20
// Социальный комплекс Первичный Совет ветеранов № 4 (РЭУ- 5/2, ДЕЗ –18) Телефон: 8(499)480-70-31
// Социальный комплекс Первичный Совет ветеранов № 3 (РЭУ- 5, ДЕЗ –16)
Телефон: 8(499)480-70-31// Социальный комплекс Первичный Совет ветеранов № 2 (РЭУ- 4, ДЕЗ –15) Телефон: 8(499)480-70-31
// Социальный комплекс
// Социальный комплекс Совет старших по домам и подъездам района Бескудниковский Телефон: 8(499)905-27-53
Социальный комплекс
// Социальный комплекс Местная районная организация «Головино» Московской общественной организации «ВОИ» 8-(495)-453-22-45
// Социальный комплекс Общественный Совет района Западное Дегунино Телефон: 8(499)487-92-58Факс: 8(499)487-92-58
// Социальный комплекс Общественный совет Тимирязевского района Телефон: 8-499-760-84-33Электронная почта: soc@tim. sao.mos.ru
sao.mos.ru
// Социальный комплекс Общественный Совет района Аэропорт Телефон: +7 (499) 151–6975
// Социальный комплекс Пенсионный фонд РФ Управление с обращением граждан Телефон: 8 (800) 505-55-55
// Социальный комплекс Общественно-экспертный Совет при главе управы района Сокол города Москвы Телефон: 8 (495) 158-69-81
// Социальный комплекс Пенсионный фонд РФ (управление №4) Телефон: 8 (495) 451-30-76
// Социальный комплекс Центр психологической разгрузки «Альфа» Телефон: +7 (926) 213-48-26Факс: +7 (495) 767-91-37Электронная почта: cpr@netstressov. ruСайт: http://www.netstressov.ru/
ruСайт: http://www.netstressov.ru/
// Социальный комплекс Профсоюзный комитет студентов и аспирантов МАИ Телефон: 8(499)158-58-64, внутр. 58–07.Факс: 8(499)158-29-77.Электронная почта: [email protected]Сайт: www.profkom-st.mai.ru
// Социальный комплекс Региональная общественная организация инвалидов c детства и их родителей «Всехсвятское» Телефон: 8(499)198-24-02Электронная почта: pishuginavm@yandex. ru
ru
// Социальный комплекс Пенсионный фонд РФ отделение по г. Москве и МО главное управление № 5 Северного АО управление № 1 пенсионный отдел Беговой Телефон: 8-495-945-78-23
// Социальный комплекс Совет ветеранов Молжаниновского района Телефон: 8 (499) 500-19-72; 8 (499) 500-19-71
// Социальный комплекс ГУ ОПФР (пенсионный)
// Социальный комплекс Первичный Совет ветеранов № 6 (РЭУ- 6/2, ДЕЗ –29) Телефон: 8(495)484-17-20
// Социальный комплекс Первичный Совет ветеранов № 5 (РЭУ- 6/1, ДЕЗ –19) Телефон: 8(495)484-17-20
// Социальный комплекс Первичный Совет ветеранов № 4 (РЭУ- 5/2, ДЕЗ –18) Телефон: 8(499)480-70-31
// Социальный комплекс Первичный Совет ветеранов № 3 (РЭУ- 5, ДЕЗ –16) Телефон: 8(499)480-70-31
// Социальный комплекс Первичный Совет ветеранов № 2 (РЭУ- 4, ДЕЗ –15) Телефон: 8(499)480-70-31
// Социальный комплекс Первичный Совет ветеранов № 1 (РЭУ- 4, ДЕЗ –14) Телефон: 8(499)480-70-31
// Социальный комплекс Совет старших по домам и подъездам района Бескудниковский Телефон: 8(499)905-27-53
На Дмитровском шоссе откроют многофункциональный комплекс «Мой социальный центр»
Москвичи смогут получать здесь привычные социальные услуги, а также отдыхать, общаться, посещать занятия по интересам.
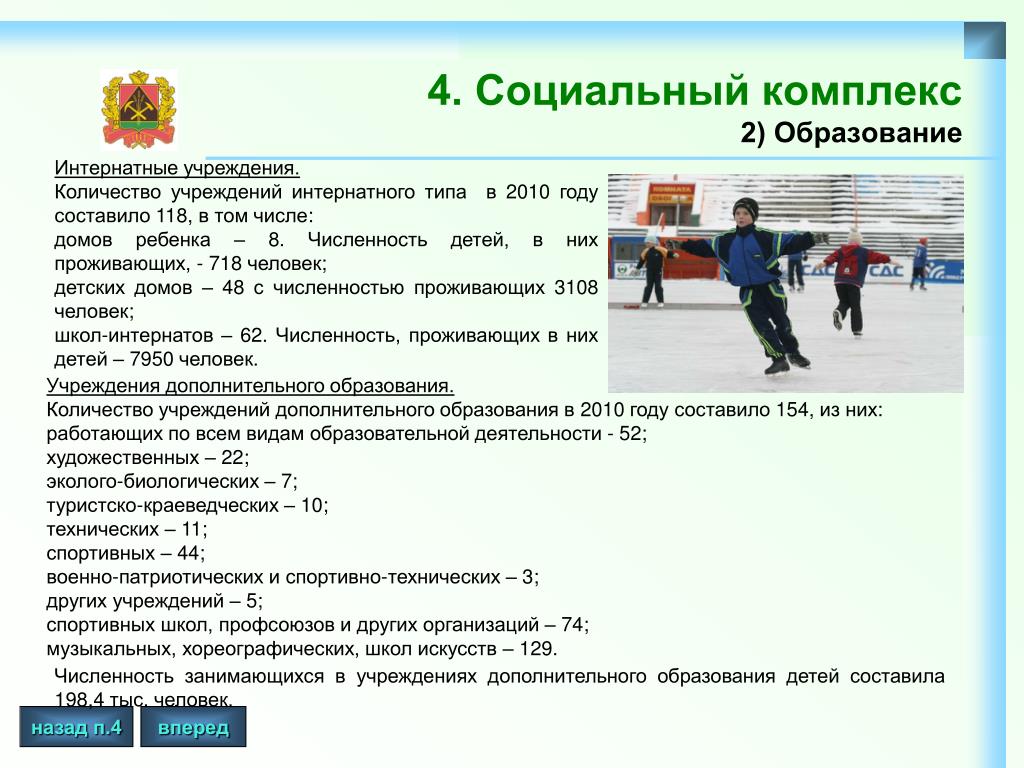
В районе Северный появится один из крупнейших в Москве комплексов «Мой социальный центр». Новое здание для его размещения передал территориальному центру социального обслуживания «Бибирево» столичный Департамент городского имущества, сообщил глава ведомства Максим Гаман.
«Многофункциональный комплекс “Мой социальный центр” разместился по адресу: Дмитровское шоссе, дом 169в. До этого он занимал одноэтажное здание площадью 332 квадратных метра. Новый объект был возведен за счет средств Адресной инвестиционной программы города Москвы. В четырехэтажной новостройке площадью почти четыре тысячи квадратных метров созданы комфортные условия для оказания стандартных социальных услуг, а также приятного времяпровождения и занятий в кружках по интересам, организованных в первую очередь для пожилых москвичей. Это один из крупнейших комплексов “Мой социальный центр” (13-й по счету) в столице. Остальные расположены в районах Марьина Роща, Таганский, Преображенское, Чертаново Северное, Южное Бутово, Ломоносовский, Сокольники, Митино, Некрасовка, Тушино, а также на территории Новой Москвы в поселении Щаповском и городе Московском», — рассказал Максим Гаман.
Новостройку для центра социального обслуживания района Северный возвели неподалеку от современных крупных жилых комплексов и недавно построенных многоквартирных домов. Рядом находятся остановки наземного общественного транспорта и живописный заказник «Долгие пруды». При этом крупные автомобильные трассы расположены далеко.
На первом этаже нового центра разместятся справочная служба помощников-консультантов, столовая, отделение срочного обслуживания населения и специалистов социального обслуживания на дому, а также кафе и кулинарная студия. Второй этаж займут отделение социальной реабилитации горожан с ограниченными возможностями здоровья, кабинет социальных работников, залы механотерапии и лечебной физкультуры, соляная пещера, массажный кабинет. На третьем этаже для посетителей откроются отделения по вопросам опеки, обслуживания старшего поколения и семей с детьми, а также будут оборудованы помещения для администрации центра. На четвертом этаже обустроят бильярдную, тихие и шумные гостиные, многофункциональный спортивный зал, художественные мастерские, актовый зал на 150 мест и зимний сад.
«“Мой социальный центр” — проект Правительства Москвы, который был создан в 2019 году, — рассказал исполняющий обязанности директора ГБУ «Московские социальные центры» Артем Алексеев. — Этот проект предполагает реорганизацию социальных центров, которые работали в большей степени на предоставление льгот и социальных пособий, в комфортабельные центры, где, помимо оперативного и профессионального оказания всего комплекса социальных услуг, горожанам будут даны широкие возможности для развития клубной деятельности и досуга. Москвичи могут прийти в такие центры, отдохнуть, пообщаться, заняться тем, что интересно».
Планируется, что до конца года в Москве будет работать более 30 городских комплексов «Мой социальный центр», на базе которых действуют клубы по интересам для жителей старшего поколения. Любой желающий может прийти сюда без предварительной записи, при этом место жительства посетителя не имеет значения.
19. 10.2021
10.2021
Понятие «социальный комплекс» Гомельской области
Социальный комплекс — это совокупность отраслей, удовлетворяющих социально-бытовые и культурные потребности населения. Уровень его развития — один из важнейших показателей экономического благополучия страны, определяющий уровень и качество жизни населения.
Размещение отдельных предприятий и учреждений социального комплекса (социальной инфраструктуры) определяется особенностями расселения, а также назначением и спросом населения на услуги. В Гомельской области платные услуги населению оказывают около 3 тыс. частных и государственных организаций [64].
В структуре социального комплекса различают: во-первых, отрасли производственной сферы; во-вторых, отрасли непроизводственной сферы, которые, в свою очередь, объединяются в 2 межотраслевых комплекса: а) социально-потребительский комплекс; б) социально-культурный комплекс.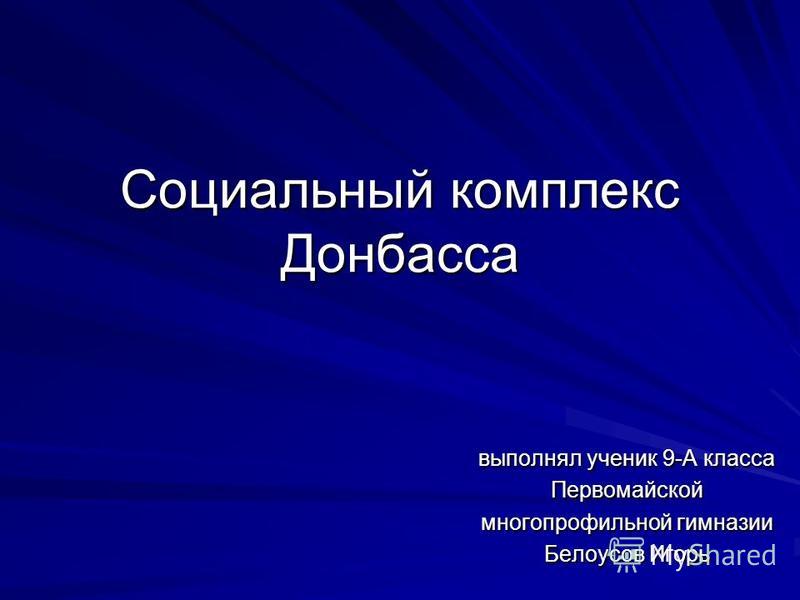
Социальный комплекс Гомельской области включает:
1) отрасли производственной сферы: легкая промышленность, фарфоро-фаянсовая промышленность, предприятия других отраслей, производящие товары народного потребления;
2) отрасли непроизводственной сферы, оказывающие разнообразные услуги населению: а) социально-потребительский комплекс: жилищнокоммунальное хозяйство, связь и пассажирский транспорт, предоставляющие населению платные услуги; б) социально-культурный комплекс: образование и наука, здравоохранение и физическая культура, спорт и туризм, культура и искусство.
К социальному комплексу относятся также предприятия полиграфической промышленности, представленные комбинатами «Полеспечатъ» и «Сож» (г. Гомель), а также небольшими типографиями, имеющимися во всех районных центрах.
Социальный комплекс Гомельской области дополняют такие предприятия, как завод фарфоровой посуды (г. Добруш), зеркальная фабрика (г. Гомель), завод пластмассовых изделий (г. Гомель), фабрики игрушек (г. Гомель, г. Жлобин), завод медицинских протезов (г. Гомель), а также частные мастерские, занимающиеся производством и ремонтом ювелирных изделий, одежды и обуви. Товары народного потребления производятся практически на всех крупных промышленных предприятиях Гомельской области [13, 60, 64].
Гомель), фабрики игрушек (г. Гомель, г. Жлобин), завод медицинских протезов (г. Гомель), а также частные мастерские, занимающиеся производством и ремонтом ювелирных изделий, одежды и обуви. Товары народного потребления производятся практически на всех крупных промышленных предприятиях Гомельской области [13, 60, 64].
Автор: Г.Н. Каропа
Источник: Каропа, Г.Н. География Гомельской области: курс лекций для студентов / Г. Н. Каропа, М-во образования РБ, Гомельский госуд. ун-т им. Ф. Скорины. — Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2009. — 157 с.
Дворец Труда и Согласия, культурно-социальный комплекс в Красноярске на проспект Металлургов, 22 — отзывы, адрес, телефон, фото — Фламп
В Культурно-Социальный Комплекс Дворец Труда и Согласия был приглашён на выступление танцевального коллектива «Вдохновение» под руководством художественного руководителя Т.Ф. Бабиновой.
Читателю, особенно родителям, интересующимся, чем занять ребёнка, для начала расскажу, что это такое – Дворец Труда и Согласия. Так вот, это — дворец культуры в…
Так вот, это — дворец культуры в…
Показать целиком
В Культурно-Социальный Комплекс Дворец Труда и Согласия был приглашён на выступление танцевального коллектива «Вдохновение» под руководством художественного руководителя Т.Ф. Бабиновой.
Читателю, особенно родителям, интересующимся, чем занять ребёнка, для начала расскажу, что это такое – Дворец Труда и Согласия. Так вот, это — дворец культуры в самом его высоком смысле, и место средоточения по увлечениям. Дети, подростки, студенты, и конечно, взрослые, узнавшие и почувствовавшие красоту разных ипостасей культуры – будь-то пение, танцы, актерское мастерство, многочисленные грани народного творчества и много-много чего ещё, собираются в ДК Труда и согласия для изучения и развития мастерства по направлениям своих увлечений.
В процессе своего обучения, они узнают историю своего направления и технику исполнения, набирают практический опыт исполнения, а этот путь, шаг за шагом, объединяет профессионалов в любых областях: будь-то чисто профессионального или культурного направления.
Особенно это всё ценно детям и студентам, ведь серьезно занимаясь своим увлечением, они учатся учиться, учатся не бросать цель после первой трудности, учатся браться за эти трудности снова и снова по-мужски (а это ценно всем!), учатся существовать в коллективе, не ссорится по мелочам, терпеть друг друга, дружить.
Если кто-то, особенно из родителей, согласившись, спросит: а что же с этим полезного делать, то прямо и отвечу. Время, время очень ценно. Подростку всему перечисленному в жизни можно научится, но, правда, аккурат только к пенсии. Ну, вы знаете, тогда многие мудрыми и опытными становятся, только уже поздно, ошибок наделано. Те же, кто постарается познакомиться с этим, походив в ДК после школы, уже к выпускному вечеру хоть не в полной мере, но познав правила и опыт жизни, появляется в новом коллективе в ВУЗе не наивным ребенком, пустым как лист бумаги, а с опытом достижения целей, ведения работы, жизни вместе с трудностями и не пасования пред ними, и имеет фору перед сверстниками, которые только начинают познавать жизнь.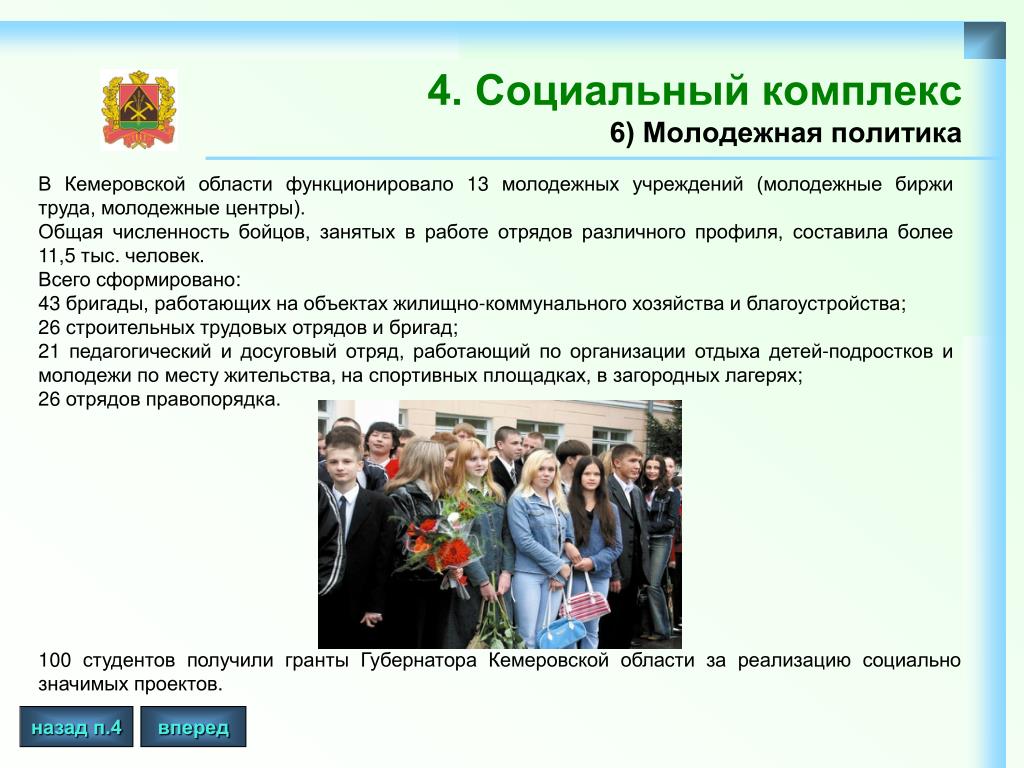 Кто-то после ВУЗа только выходит в жизнь и набирает опыт, а эти, уже поднаторевшие и получившие знания, уже начинают взбираться по профессиональной лестнице, так как многих могут обойти, они сверстники, но по практическому развитию «делать начали дела – ещё во времена ДК», поэтому берут быка за рога, и несутся вперёд.
Кто-то после ВУЗа только выходит в жизнь и набирает опыт, а эти, уже поднаторевшие и получившие знания, уже начинают взбираться по профессиональной лестнице, так как многих могут обойти, они сверстники, но по практическому развитию «делать начали дела – ещё во времена ДК», поэтому берут быка за рога, и несутся вперёд.
Уверен, кто-то скажет, что больно Денис пишет всё складно-замечательно, в жизни всё так не бывает. Не буду его разубеждать – ведь и такие нужны, на всех нас первых мест не хватит. Но со мной многие согласятся, что описанная история – классическая история увлеченного, добросовестного подростка, которому повезло, что многое успел вовремя, благодаря тому, что родители вовремя подсказали, помогли найти своё увлечение, свой коллектив будь то в ДК Труда и Согласия или в другом месте объединения по увлечениям.
Завершено основное строительство газохимического комплекса в Атырау | Газохимия
На газохимическом комплексе ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc. » (KPI) в Атырауской области завершено основное строительство завода, который будет производить более 65 различных марок полипропилена.
» (KPI) в Атырауской области завершено основное строительство завода, который будет производить более 65 различных марок полипропилена.
27 декабря новый завод принял первую партию пропана с месторождения Тенгиз. В ноябре на предприятие поступил азот и сухой сжатый воздух. Летом компания приняла электроэнергию на главную понижающую подстанцию, а позже и первично обессоленную, деминерализованную и техническую воду от ТОО «Karabatan Utility Solution». Таким образом, завод завершил прием всех энергоресурсов, необходимых для пуско-наладочных работ и последующего запуска производства.
Благодаря реализации проекта АО НК «КазМунайГаз» осваивает новое направление в своей деятельности — более глубокую переработку углеводородов. Тем самым в Казахстане зарождается новая отрасль — нефтегазохимия, которая имеет высокий экономический и социальный эффект для страны и Атырауской области, в частности. Так, каждый доллар в этой отрасли приносит дополнительно 2-3 доллара прироста в экономике и помогает созданию семи новых рабочих мест в смежных отраслях. На стадии эксплуатации на самом предприятии будет создано около 500 рабочих мест.
На стадии эксплуатации на самом предприятии будет создано около 500 рабочих мест.
При строительстве было смонтировано 29 тысяч тонн металлоконструкций, залито более 165 тысяч кубометров бетона, проложено 2,5 тысячи километров кабелей и 261 километр технологических трубопроводов. Генеральным подрядчиком выступила китайская компания CNCEC, а в строительно-монтажных работах принимали участие более 40 казахстанских компаний.
«Несмотря на то, что во время активной фазы строительства наступила пандемия коронавируса, были введены карантинные ограничения, закрылись границы и остановились заводы-изготовители, строительство не останавливалось. Благодаря применению нестандартных решений, а также поддержке Правительства и руководства Фонда «Самрук-Казына» удалось сохранить темпы работ, не выходя за рамки бюджета», — рассказывает первый заместитель председателя правления ТОО «KPI Inc.» Дамир Ашимов.
Сырье — пропан — поставляется на площадку комплекса железнодорожным транспортом в вагон-цистернах. На эстакаде смонтировано оборудование герметичного слива американской компании EMCO WHEATON, а перекачивать его будут компрессоры итальянского производителя SIAD. В среднем за сутки сливаются 72 вагона общим объемом 2 300 тонн.
На эстакаде смонтировано оборудование герметичного слива американской компании EMCO WHEATON, а перекачивать его будут компрессоры итальянского производителя SIAD. В среднем за сутки сливаются 72 вагона общим объемом 2 300 тонн.
«На железнодорожной эстакаде операторы будут принимать сырье, которое перекачивается в парк хранения, оборудованный системой обнаружения газовой опасности. Далее пропан будет подаваться на установку дегидрирования для получения пропилена. А на установке полимеризации будет производиться конечный продукт – полипропилен», — говорит главный инженер предприятия Денис Козырев.
Мощность комплекса — 500 тыс. тонн полипропилена в год, который является базовым сырьем в машиностроении, медицине и электротехнике, применяется для производства упаковочных материалов, тары, волокон, труб и фитингов для горячего водоснабжения, оргтехники и бытовой электроники, товаров народного потребления, садовой и офисной мебели.
Резервуарный парк состоит из четырех емкостей хранения, изготовленных в Южной Корее. Каждый резервуар длиной 42 метра вмещает 2 500 кубических метров пропана.
Каждый резервуар длиной 42 метра вмещает 2 500 кубических метров пропана.
В реализации проекта были задействованы крупные компании-лидеры с мировым именем, такие как Siemens, MAN, SGS, Air Liquide, Mitsubishi и другие. Для наладки высокотехнологичного оборудования и обучения работе с ним операторов в Атырау приезжали шеф-инженеры заводов-изготовителей.
В проекте KPI применены современные технологии — это позволит предприятию стать полностью цифровым. Складские операции, такие как упаковка продукции, складирование и погрузка в авто и железнодорожный транспорт будет осуществлять специальная робототехника без участия людей. А специализированные IT-решения и корпоративные учетные системы позволят вести высокоточный учет всех данных от планирования операций до сбыта готовой продукции конечному потребителю.
На предприятии отмечают, что производство полностью соответствует всем экологическим требованиям. Сырьем является уже очищенный от вредных примесей пропан, который по производственной цепочке преобразуется в пропилен, а далее в полипропилен. В ходе этих процессов исключено образование опасных вредных веществ, таких как сероводород, сернистый ангидрид и ароматические углеводороды.
В ходе этих процессов исключено образование опасных вредных веществ, таких как сероводород, сернистый ангидрид и ароматические углеводороды.
Комплекс экологичен и в части потребления воды — он имеет замкнутый цикл оборотного водоснабжения для технологических процессов. Благодаря интеграции с комплексом очистных сооружений ТОО «Karabatan Utility Solutions» решается задача по снижению водопотребления за счет почти полной утилизации стоков и их повторного использования.
Еще одним важным моментом является стратегическое партнерство по реализации проекта с крупной нефтехимической компанией «СИБУР». Опыт и компетенция партнера откроют для «КазМунайГаза» новые рынки сбыта казахстанской продукции.
Работа в Ленте
Компания «ЛЕНТА» уделяет особое внимание обучению персонала, помогает на пути профессионального роста. Помимо стандартных программ обучения, которые проходят сотрудники при вступлении в должность, «ЛЕНТА» предлагает индивидуальные программы развития с учетом сильных сторон сотрудников.
В истории Компании много примеров успешного карьерного роста со стартовых позиций: начальник отдела транспорта пришел в компанию несколько лет назад на должность стажера коммерческой службы; директор по мерчандайзингу начинала свой путь в «ЛЕНТЕ» с позиции секретаря; заместитель директора гипермаркета сейчас занимает должность заместителя операционного директора всей сети «ЛЕНТА». В Компании регулярно отслеживаются показатели карьерного роста, ежегодно более 14% всех сотрудников «ЛЕНТЫ» переходят на более высокие должности.
Незаменимым принципом «ЛЕНТЫ» является работа в полном соответствии с законодательством РФ. Компания предоставляет сотрудникам конкурентоспособную и достойную заработную плату, которая регулярно пересматривается, социальный пакет, включающий ДМС, льготное питание, возможность изучения иностранных языков. В компании действует справедливая и прозрачная система премирования.
В «ЛЕНТЕ» эффективно работает процесс регулярной оценки деятельности персонала.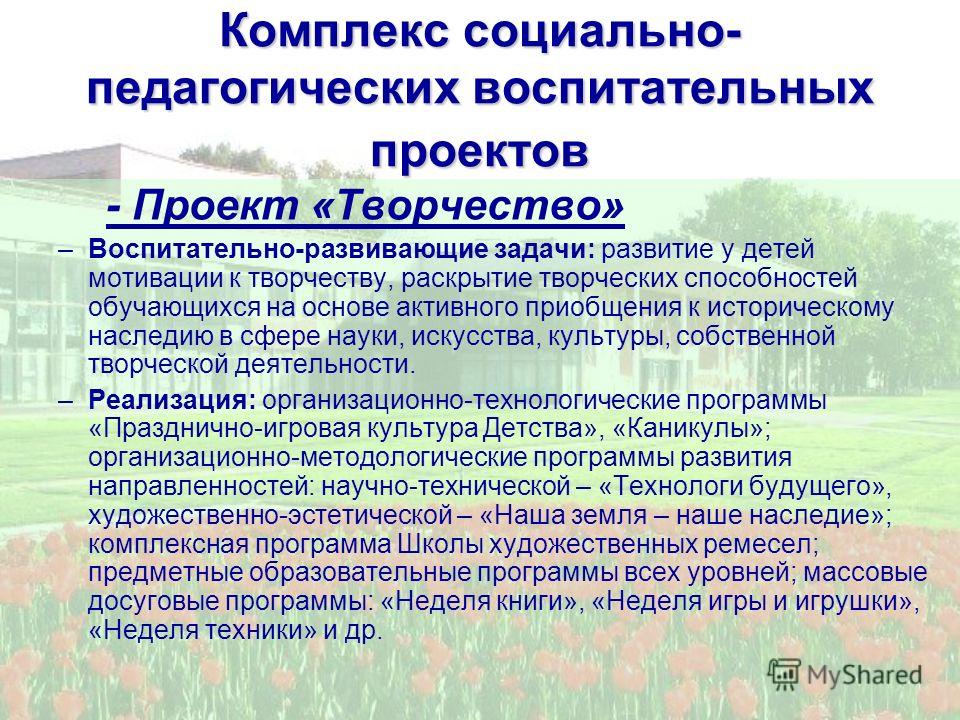
Компания развивает ряд программ нематериальной мотивации: конкурсы по профессии, акции для сотрудников, корпоративные мероприятия.
Если сегодня Вы не нашли подходящей вакансии, но хотите работать в Компании — заполните анкету, отправьте резюме по адресу [email protected] или позвоните по телефону Единого центра найма (Санкт-Петербург) 8-800-770-00-30 (звонок бесплатный) и, как только у нас появится соответствующее предложение, специалист Отдела персонала свяжется с Вами и пригласит на собеседование!
Наши группы по поиску работы в социальных сетях:
Узнайте больше о работе в «ЛЕНТЕ», нажав на баннер ниже:
Ссылки на сайты по поиску работы:
Станьте частью нашей команды!
Сотрудники о своей работе в «ЛЕНТЕ»:
Социальная сложность как непосредственный и решающий фактор коммуникативной сложности
Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci. 2012 5 июля; 367 (1597): 1785–1801.
2012 5 июля; 367 (1597): 1785–1801.
Тодд М. Фриберг
1 Департамент психологии, Университет Теннесси, Ноксвилл, Теннесси 37996, США
2 Департамент экологии и эволюционной биологии, Университет Теннесси, Ноксвилл, Теннесси 37996, США
Робин IM Dunbar
3 Институт когнитивной и эволюционной антропологии, Оксфордский университет, Оксфорд, Великобритания
Терри Дж.Ord
4 Исследовательский центр эволюции и экологии и Школа биологических наук, наук о Земле и окружающей среде, Университет Нового Южного Уэльса, Кенсингтон, Новый Южный Уэльс, Австралия
1 Департамент психологии, Университет Теннесси, Ноксвилл , TN 37996, USA
2 Департамент экологии и эволюционной биологии, Университет Теннесси, Ноксвилл, Теннесси 37996, США
3 Институт когнитивной и эволюционной антропологии, Оксфордский университет, Оксфорд, Великобритания
4 Исследовательский центр эволюции и экологии и Школа биологических наук, наук о Земле и окружающей среде, Университет Нового Южного Уэльса, Кенсингтон, Новый Южный Уэльс, Австралия
Авторские права на этот журнал принадлежат © 2012 Королевское общество .
Abstract
«Гипотеза социальной сложности» для коммуникации утверждает, что группам со сложными социальными системами требуются более сложные коммуникативные системы для регулирования взаимодействий и отношений между членами группы. Сложные социальные системы, по сравнению с простыми социальными системами, — это те, в которых люди часто взаимодействуют в самых разных контекстах с множеством разных людей и часто многократно взаимодействуют со многими из одних и тех же людей в сетях с течением времени. Сложные коммуникативные системы по сравнению с простыми коммуникативными системами — это те, которые содержат большое количество структурно и функционально различных элементов или обладают большим количеством битов информации.Здесь мы описываем некоторые исторические аргументы, которые привели к гипотезе социальной сложности, и рассматриваем доказательства в поддержку этой гипотезы. Мы обсуждаем социальную сложность как движущую силу общения и возможный причинный фактор происхождения человеческого языка.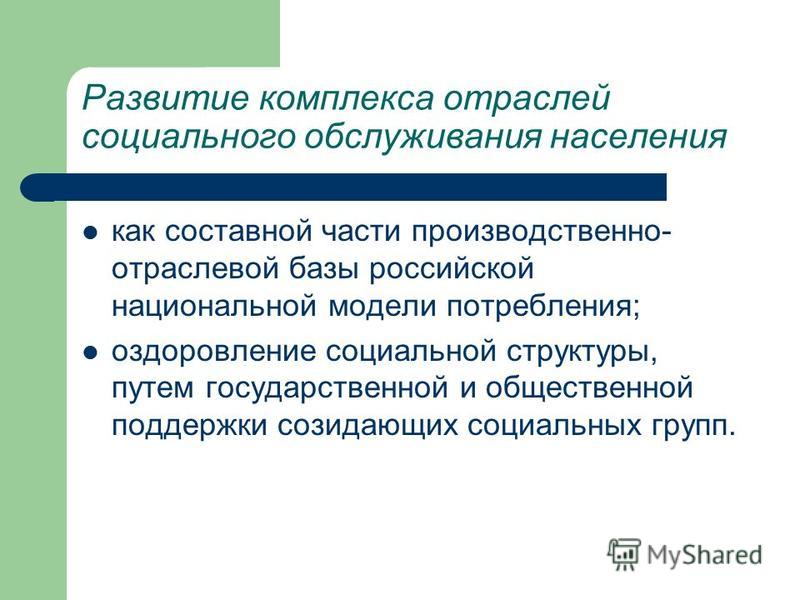 Наконец, мы обсуждаем некоторые из основных текущих ограничений гипотезы социальной сложности — отсутствие тестов против альтернативных гипотез коммуникативной сложности и доказательств, подтверждающих гипотезу, с использованием модальностей, отличных от голосового сигнального канала.
Наконец, мы обсуждаем некоторые из основных текущих ограничений гипотезы социальной сложности — отсутствие тестов против альтернативных гипотез коммуникативной сложности и доказательств, подтверждающих гипотезу, с использованием модальностей, отличных от голосового сигнального канала.
Ключевые слова: гипотеза социальной сложности, коммуникативная сложность, информация, сети, сигнализация
1. Введение
Представьте себе два родственных вида, которые сталкиваются с аналогичным давлением физического отбора окружающей среды, например, с одинаковыми сезонами и погодными условиями, сходной территорией и едой. ресурсные базы и подобные паразиты и хищники. У первого вида типичной социальной единицей является пара самка – самец. Среднестатистическая особь первого вида проводит большую часть своей взрослой жизни, взаимодействуя с одной особью противоположного пола, время от времени взаимодействуя с одной или двумя особями на территориальной границе, а часть года посвящает выращиванию потомства.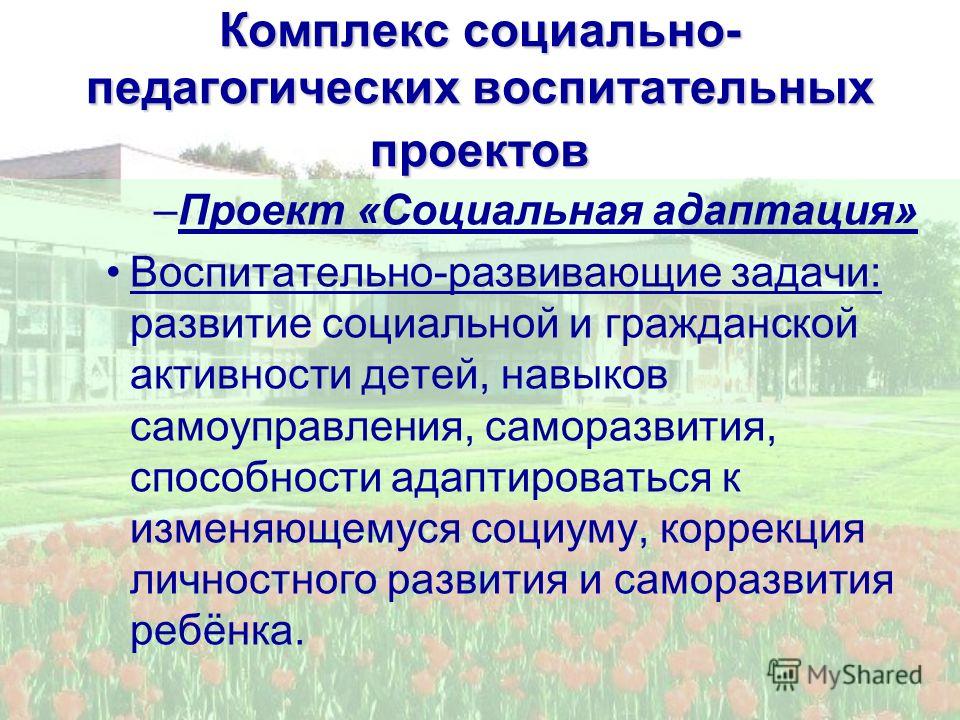 У второго вида типичная социальная единица — это большая группа из нескольких пар самка-самец и одного или двух поколений потомков этих разных пар. Среднестатистическая особь второго вида проводит большую часть своей взрослой жизни, взаимодействуя со взрослыми, которые более доминируют для него, со взрослыми, которые более подчинены ему, с более молодыми поколениями особей и с большим количеством особей других таких группировок. территориальные границы. В этом сценарии с этими двумя видами мы можем представить, что у второго вида по сравнению с первым видом существует большая потребность в индивидуальной дискриминации, основанной на коммуникативных сигналах, или в передаче более широкого разнообразия сообщений об индивидуальных поведенческих тенденциях и окружающих контекстах. , или для выражения более широкого диапазона эмоциональных и мотивационных состояний, или некоторой комбинации этих трех потребностей.Таким образом, из-за большей социальной сложности у второго вида по сравнению с первым мы ожидаем большего разнообразия коммуникативных сигналов у второго вида — большей коммуникативной сложности.
У второго вида типичная социальная единица — это большая группа из нескольких пар самка-самец и одного или двух поколений потомков этих разных пар. Среднестатистическая особь второго вида проводит большую часть своей взрослой жизни, взаимодействуя со взрослыми, которые более доминируют для него, со взрослыми, которые более подчинены ему, с более молодыми поколениями особей и с большим количеством особей других таких группировок. территориальные границы. В этом сценарии с этими двумя видами мы можем представить, что у второго вида по сравнению с первым видом существует большая потребность в индивидуальной дискриминации, основанной на коммуникативных сигналах, или в передаче более широкого разнообразия сообщений об индивидуальных поведенческих тенденциях и окружающих контекстах. , или для выражения более широкого диапазона эмоциональных и мотивационных состояний, или некоторой комбинации этих трех потребностей.Таким образом, из-за большей социальной сложности у второго вида по сравнению с первым мы ожидаем большего разнообразия коммуникативных сигналов у второго вида — большей коммуникативной сложности.
В этой статье мы утверждаем, что сложность социальных взаимодействий между животными приводит к большей коммуникативной сложности как в непосредственном, так и в конечном смысле. Этот аргумент представляет собой «гипотезу социальной сложности» коммуникативной сложности.Центральный вопрос, лежащий в основе этой гипотезы, заключается в том, почему вид, который живет в более крупных или более сложных социальных группах, не может использовать ту же систему коммуникации для управления своим социальным миром, как тот, который живет в менее сложном обществе. Гипотеза социальной сложности не нова для нас, и в § 2 мы даем историческую основу этому аргументу. Мы заканчиваем этот раздел некоторыми явными предсказаниями гипотезы. Далее, в § 3 мы кратко обсуждаем некоторые эмпирические свидетельства в поддержку гипотезы.В § 4 мы кратко обсуждаем гипотезу социальной сложности в контексте языкового происхождения наших собственных предков-гоминидов. В §5 мы описываем некоторые из текущих ограничений проверки гипотезы — относительную нехватку данных, критически проверяющих гипотезу по сравнению с альтернативами, и данных, проверяющих гипотезу в неголосовых коммуникативных каналах.
2. Гипотеза социальной сложности для коммуникативной сложности
(a) Исторические аргументы
Более 200 лет назад Ламарк предоставил нам самую раннюю полную теорию эволюции видов и один из первых явных аргументов в пользу того, как социальная сложность приводит к коммуникативной сложности.В разделе Philosophie Zoologique [1], в котором он описал свой аргумент в пользу ключевого отличия нашей человеческой родословной от родословной нечеловеческих животных, а именно языка, он написал:
‘Индивиды … Значительно увеличив свои потребности по мере того, как общества, которые они сформировали, становились больше, должны были приумножить свои идеи в эквивалентной степени и, таким образом, почувствовали необходимость передать их своим собратьям. Мы можем представить, что это заставит их увеличивать и изменять в той же степени знаки, которые они использовали для передачи этих идей… »[1, с.172]
Этот раздел в Philosophie Zoologique представляет собой ранний аргумент в пользу представления о том, что определенные коммуникативные события могут служить ориентирами для определенных экологических контекстов или стимулов, или определенных внутренних состояний или процессов, и что более сложные социальные группы или сети может потребовать более широких возможностей передачи сигналов из-за большей потребности в передаче такой информации. Этот отрывок также представляет собой ранний аргумент в пользу коммуникации как процесса передачи информации [2–4].
Этот отрывок также представляет собой ранний аргумент в пользу коммуникации как процесса передачи информации [2–4].
Среди множества вкладов Дарвина, которые служат основой для областей наук о жизни и социальных наук, он привел аналогичный аргумент Ламарку в отношении сложности социальных взаимодействий в книге Выражение эмоций в человеке и животных [5 ]:
«С социальными животными сила взаимодействия между членами одного и того же сообщества — и с другими видами, между противоположными полами, а также между молодыми и старыми — имеет первостепенное значение для их.Обычно это осуществляется с помощью голоса, но несомненно, что жесты и выражения в определенной степени взаимно понятны »[5, с. 60]
«Натуралисты заметили, я считаю правдиво, что социальные животные, привыкшие использовать свои голосовые органы как средство общения, используют их в других случаях гораздо более свободно, чем другие животные» [5, с. 84]
В этой монументальной работе об эмоциях, выражении и принципе антитезиса в общении Дарвин подходит к нашей проблеме с точки зрения необходимости для социальных видов передавать и оценивать более широкий диапазон эмоциональных состояний в своих сигналах по сравнению с менее социальные или одиночные виды. Таким образом, этот отрывок представляет собой ранний аргумент в пользу общения не как передачи информации, а как средство передачи сигналов об эмоциональном или мотивационном состоянии [6,7].
Таким образом, этот отрывок представляет собой ранний аргумент в пользу общения не как передачи информации, а как средство передачи сигналов об эмоциональном или мотивационном состоянии [6,7].
Студенты, изучающие общение с животными, понимают, что эти два подхода к общению — один как процесс передачи информации, а другой как процесс выражения эмоций или возбуждения — представляют собой очень разные взгляды на то, что такое общение и как мы должны изучать, интерпретировать и описывая его (e.г. недавние комментарии в исследованиях [8–10]). Тем не менее, что интересно в этих двух ранних отрывках из Ламарка и Дарвина, так это то, что они оба указывают на схожую цель в отношении социально сложных видов — у особей этих видов должна быть более богатая и разнообразная система общения.
Исследователи начала двадцатого века в самых разных областях приводили аналогичные аргументы. В одном из первых текстов по социологии Бернар [11, с. 299], например, пишет: «Постоянно расширяющаяся социальная среда постоянно требует от новых организаций старых простых врожденных или приобретенных единиц деятельности в новые комплексы характеров, служащих механизмами адаптации. Эти комплексы характеров не передаются по наследству, но строятся заново для каждого человека, который нуждается в них в целях адаптации ». Толман [12, с. 238], в тексте, который является основой для когнитивной психологии, которая последует за четырьмя десятилетиями позже, пишет: «Успех этого речевого инструмента зависит, конечно, от степени способностей говорящего к средствам и результатам и его способности различать и манипулировать в отношении задействованных логических, риторических и социальных средств-целей-измерений ».Переводя жаргон этой области и времени, его основной аргумент заключается в том, что возможности языковой / коммуникативной системы связаны с восприятием сигналов и производственными способностями тех, кто общается, а также с социальным и экологическим давлением, влияющим на них. В своей классической статье об установлении и поддержании иерархии доминирования у птиц зоолог Шельдеруп-Эббе [13] обсудил сложности в социальной жизни птиц, связанные с полом, возрастом, знакомством, «симпатией и антипатией» и социальным положением, а также как эти факторы могут влиять на то, как люди физически взаимодействуют друг с другом и общаются друг с другом.
Эти комплексы характеров не передаются по наследству, но строятся заново для каждого человека, который нуждается в них в целях адаптации ». Толман [12, с. 238], в тексте, который является основой для когнитивной психологии, которая последует за четырьмя десятилетиями позже, пишет: «Успех этого речевого инструмента зависит, конечно, от степени способностей говорящего к средствам и результатам и его способности различать и манипулировать в отношении задействованных логических, риторических и социальных средств-целей-измерений ».Переводя жаргон этой области и времени, его основной аргумент заключается в том, что возможности языковой / коммуникативной системы связаны с восприятием сигналов и производственными способностями тех, кто общается, а также с социальным и экологическим давлением, влияющим на них. В своей классической статье об установлении и поддержании иерархии доминирования у птиц зоолог Шельдеруп-Эббе [13] обсудил сложности в социальной жизни птиц, связанные с полом, возрастом, знакомством, «симпатией и антипатией» и социальным положением, а также как эти факторы могут влиять на то, как люди физически взаимодействуют друг с другом и общаются друг с другом. Сравнительный психолог Карпентер [14] и этолог Торп [15], несмотря на методологические и теоретические различия в их соответствующих областях (хотя и не столько в их собственных исследованиях), установили аналогичные связи между сложностью социальных групп у видов животных и сложность их систем общения.
Сравнительный психолог Карпентер [14] и этолог Торп [15], несмотря на методологические и теоретические различия в их соответствующих областях (хотя и не столько в их собственных исследованиях), установили аналогичные связи между сложностью социальных групп у видов животных и сложность их систем общения.
Совсем недавно исследователи в области антропологии, биологии и психологии установили и проверили гипотезу социального интеллекта (также называемую гипотезой Макиавеллиевского интеллекта [16-19] и гипотезой социального мозга [20,21]), которая имеет отношение к нашему большему количеству людей. общее представление о том, что социальность определяет коммуникативную сложность.Основной аргумент гипотезы социального интеллекта состоит в том, что, в то время как особи всех видов должны решать сложные проблемы в своей физической среде, особи сильно социальных видов должны решать дополнительные — и потенциально даже более сложные — проблемы, связанные конкретно с социальными мирами, в которых они обитают. Эти люди должны уравновешивать «эгоистичные» индивидуальные потребности с потребностями, исходящими от других членов группы, к которой они принадлежат. У этих сильно социальных видов существует потребность в повышенной способности социальной когнитивной обработки.Эти способности включают в себя распознавание и запоминание прошлых взаимодействий с людьми, адекватное реагирование на сторонние отношения внутри группы (например, индивидуум, реагирующий на родственника недавно подвергшегося агрессии «сверстника» иначе, чем на родственника неагрессивного «сверстника»). ), а также гибкие и эффективные способы оценки и управления поведением членов группы. Основное средство достижения этого последнего пункта — коммуникативное взаимодействие с членами группы [2,6,7,22,23].Таким образом, одним из ключевых элементов общих аргументов гипотезы социального интеллекта является то, что, вероятно, существует потребность в повышенной коммуникативной сложности у сильно социальных видов по сравнению с менее социальными или более уединенными видами.
Эти люди должны уравновешивать «эгоистичные» индивидуальные потребности с потребностями, исходящими от других членов группы, к которой они принадлежат. У этих сильно социальных видов существует потребность в повышенной способности социальной когнитивной обработки.Эти способности включают в себя распознавание и запоминание прошлых взаимодействий с людьми, адекватное реагирование на сторонние отношения внутри группы (например, индивидуум, реагирующий на родственника недавно подвергшегося агрессии «сверстника» иначе, чем на родственника неагрессивного «сверстника»). ), а также гибкие и эффективные способы оценки и управления поведением членов группы. Основное средство достижения этого последнего пункта — коммуникативное взаимодействие с членами группы [2,6,7,22,23].Таким образом, одним из ключевых элементов общих аргументов гипотезы социального интеллекта является то, что, вероятно, существует потребность в повышенной коммуникативной сложности у сильно социальных видов по сравнению с менее социальными или более уединенными видами. Хотя общение представляет собой ключевой компонент гипотезы социального интеллекта, мы все же отмечаем, что было проведено относительно мало работ, которые непосредственно оценивали общение в свете гипотезы социального интеллекта.
Хотя общение представляет собой ключевой компонент гипотезы социального интеллекта, мы все же отмечаем, что было проведено относительно мало работ, которые непосредственно оценивали общение в свете гипотезы социального интеллекта.
(b) Определения
(i) Социальная сложность
Мы не хотим быть легкомысленными, но «сложность» — это сложный термин, который редко определяется явно в поведенческих документах, которые его обсуждают.Таким образом, мы считаем, что необходимо некоторое определение социальной сложности (вставка 1). Сложность сигналов обсуждается в § 2 b (ii). Классически и интуитивно социальность является синонимом групповой жизни. Животные, живущие в отрядах, стадах, стадах, стадах и т. Д., — это те животные, в которых последовательность и регулярность взаимодействий между одним и тем же набором людей может привести к формированию сложной социальной динамики (например, иерархии доминирования, союзов, различных функциональных ролей). Мы подчеркиваем понятие регулярности взаимодействий между членами группы, поскольку существуют очевидные различия между стабильной структурой стаи бабуинов и огромным скоплением копытных (важность «привязанности» поднята у Данбара [29]). В то время как и стая бабуинов, и скопление копытных представляют собой социальные группы, и отдельные лица в обоих могут извлекать выгоду из этой социальности, социальная структура и сеть отношений со стаей бабуинов делают их намного более сложными в социальном плане, чем гораздо более крупные группы копытных. Таким образом, существуют различия в социальной сложности, которые могут проводиться между разными социальными группами. А как насчет людей, не входящих в социальные группы? Было бы неправильно сказать, что все животные, не относящиеся к группе, следовательно, лишены социальной сложности.Рассмотрим территориальное животное, у которого основной «социальной единицей» является окружающая сеть территориальных соседей. Это животное должно не только следить за своими территориальными соседями (что является основой феномена «дорогого врага»: [30]), но оно также часто будет взаимодействовать с некоторыми или всеми из этих людей неоднократно на ежедневной основе. Рассмотрим также виды лекарей и тех животных, у которых самцы тратят много времени и усилий на ухаживание за разборчивыми самками.
В то время как и стая бабуинов, и скопление копытных представляют собой социальные группы, и отдельные лица в обоих могут извлекать выгоду из этой социальности, социальная структура и сеть отношений со стаей бабуинов делают их намного более сложными в социальном плане, чем гораздо более крупные группы копытных. Таким образом, существуют различия в социальной сложности, которые могут проводиться между разными социальными группами. А как насчет людей, не входящих в социальные группы? Было бы неправильно сказать, что все животные, не относящиеся к группе, следовательно, лишены социальной сложности.Рассмотрим территориальное животное, у которого основной «социальной единицей» является окружающая сеть территориальных соседей. Это животное должно не только следить за своими территориальными соседями (что является основой феномена «дорогого врага»: [30]), но оно также часто будет взаимодействовать с некоторыми или всеми из этих людей неоднократно на ежедневной основе. Рассмотрим также виды лекарей и тех животных, у которых самцы тратят много времени и усилий на ухаживание за разборчивыми самками. Возможно, социальная динамика этих животных не так сложна, как в стае шимпанзе, но территориальные ящерицы или глухарь (например) имеют сложную социальную структуру сами по себе.То есть определения социальной сложности по существу зависят от рассматриваемого таксона. Более того, широкие сравнения между основными, несопоставимыми таксономическими группами (например, приматы против птиц против ящериц), возможно, менее информативны для проверки гипотезы социальной сложности, чем сравнения между близкородственными видами, которые различаются по некоторым аспектам их социальности (например, уровню территориальности или типу система спаривания).
Возможно, социальная динамика этих животных не так сложна, как в стае шимпанзе, но территориальные ящерицы или глухарь (например) имеют сложную социальную структуру сами по себе.То есть определения социальной сложности по существу зависят от рассматриваемого таксона. Более того, широкие сравнения между основными, несопоставимыми таксономическими группами (например, приматы против птиц против ящериц), возможно, менее информативны для проверки гипотезы социальной сложности, чем сравнения между близкородственными видами, которые различаются по некоторым аспектам их социальности (например, уровню территориальности или типу система спаривания).
Вставка 1.
Определения сложности, социальной сложности и коммуникативной сложности.
Сложность
Сложность «это длина краткого описания закономерностей системы» [24, с. 227]
Сложность относится к «явлениям, возникающим из совокупности взаимодействующих объектов» [25, с. 3–4]
Сложность «просто означает количество типов деталей или степень дифференциации между частями» [26, с.
 7]
7]Сложность «возникает, когда зависимости между элементами [системы] становятся важными» [27, с.9]
Сложность «лежит между порядком и случайностью» [и] «нелегко описать, развить, спроектировать или спрогнозировать» [28, с. 32]
Социальная сложность
Сложные социальные системы — это такие системы, в которых люди часто взаимодействуют в самых разных контекстах с множеством разных людей, и часто многократно взаимодействуют со многими из одних и тех же людей с течением времени.
Коммуникативная сложность
Сложные коммуникативные системы — это такие системы, которые содержат большое количество структурно и функционально различных элементов (например,г. большие размеры репертуара дисплея) или содержат большое количество бит информации.
Мы принимаем менее эксклюзивное определение социальной сложности, основанное на частоте, характере и постоянстве взаимодействий между сородичами. Наша точка зрения, по сути, является расширением теории систем [31], в которой любая система элементов может быть описана числом элементов, различными типами («видами») элементов и различными отношениями между элементами. Таким образом, сложность социальных систем связана с количеством взаимодействующих индивидов, различными типами (социальными ролями) этих индивидов, а также характером и разнообразием взаимодействий между этими индивидами.Согласно этому определению, простые социальные системы — это те, в которых животные редко взаимодействуют, и когда они это делают, взаимодействия, как правило, происходят в одном контексте (например, для воспроизводства) и почти никогда не повторяются с одним и тем же человеком. И наоборот, сложные социальные системы — это такие, в которых люди часто взаимодействуют в самых разных контекстах (например, размножение, агрессия и добыча пищи), и часто со многими из одних и тех же людей. Две группы с одинаковым количеством социальных ролей и схожей структурой отношений могут отличаться друг от друга по количеству индивидов, причем большие группы являются более сложными, чем группы меньшего размера.Две группы с одинаковым количеством людей и схожей структурой отношений могут отличаться друг от друга количеством социальных ролей, при этом группы, имеющие больше социальных ролей, являются более сложными, чем группы с меньшим количеством социальных ролей.
Таким образом, сложность социальных систем связана с количеством взаимодействующих индивидов, различными типами (социальными ролями) этих индивидов, а также характером и разнообразием взаимодействий между этими индивидами.Согласно этому определению, простые социальные системы — это те, в которых животные редко взаимодействуют, и когда они это делают, взаимодействия, как правило, происходят в одном контексте (например, для воспроизводства) и почти никогда не повторяются с одним и тем же человеком. И наоборот, сложные социальные системы — это такие, в которых люди часто взаимодействуют в самых разных контекстах (например, размножение, агрессия и добыча пищи), и часто со многими из одних и тех же людей. Две группы с одинаковым количеством социальных ролей и схожей структурой отношений могут отличаться друг от друга по количеству индивидов, причем большие группы являются более сложными, чем группы меньшего размера.Две группы с одинаковым количеством людей и схожей структурой отношений могут отличаться друг от друга количеством социальных ролей, при этом группы, имеющие больше социальных ролей, являются более сложными, чем группы с меньшим количеством социальных ролей. Наконец, две группы с одинаковым числом индивидов и одинаковым числом социальных ролей могут отличаться друг от друга структурой отношений, при этом группы, имеющие более диадические, триадические и более высокоуровневые отношения между людьми, являются более сложными, чем группы, в которых таких отношений меньше.Мы действительно отмечаем, что сравнение сложности групп, которые различаются по двум или всем трем параметрам, менее прямолинейно — однако недавние достижения в анализе социальных сетей предоставляют метрики, необходимые для таких сравнений (см. § 2 b (ii)). .
Наконец, две группы с одинаковым числом индивидов и одинаковым числом социальных ролей могут отличаться друг от друга структурой отношений, при этом группы, имеющие более диадические, триадические и более высокоуровневые отношения между людьми, являются более сложными, чем группы, в которых таких отношений меньше.Мы действительно отмечаем, что сравнение сложности групп, которые различаются по двум или всем трем параметрам, менее прямолинейно — однако недавние достижения в анализе социальных сетей предоставляют метрики, необходимые для таких сравнений (см. § 2 b (ii)). .
В то время как некоторым наше определение социальной сложности может показаться чрезмерно упрощенным, мы хотим подчеркнуть, что с этим определением гипотеза социальной сложности становится актуальной для понимания эволюции коммуникации у любого животного, у которого есть причина взаимодействовать с сородичами, независимо от конкретный контекст этого взаимодействия.Из разнообразия социальных сигналов, которые развивались по древу жизни, очевидно, что происхождению социальной коммуникации не предшествовало формирование сплоченных групп, а происходило от организмов, которые часто взаимодействовали с членами своего собственного вида в более общем плане.
(ii) Коммуникативная сложность
Было два типичных способа, которыми исследователи пытались измерить коммуникативную сложность внутри сигнальной системы определенного вида.Первый и наиболее распространенный — это количество отдельных отображений или сигналов в сигнальном репертуаре [32]. Например, самцы некоторых видов певчих птиц имеют очень большой репертуар разных песен, тогда как самцы других видов певчих птиц могут петь только один тип песен. У некоторых видов млекопитающих может быть два или более звуко различных сигнала, используемых в разных контекстах, связанных с обнаружением хищника, тогда как у других видов может использоваться только один тип сигнала тревоги при обнаружении любого типа потенциальной угрозы.Таким образом, при таком подходе аргумент состоит в том, что более широкий репертуар различных сигналов или отображений более сложен, чем меньшие репертуары отдельных сигналов или отображений. Мы отмечаем, что для определения размеров репертуара организмов важно изучать как производство сигналов в различных контекстах, так и ответы на (экспериментальное представление) сигналов. Простое описание вариаций в репертуаре сигналов — важный первый шаг в начале определения размера репертуара.Однако необходимо выйти за рамки этого и перейти к эмпирическому изучению и пониманию того, как сигналы используются сигнальщиками и как эти сигналы, в свою очередь, влияют на поведение получателя (например, различные теоретические подходы, такие как анализ оценки и управления [7] и значение сообщения анализ [33]), потому что это изучение и понимание могут, в свою очередь, пролить свет на природу и структуру самой социальной группы.
Простое описание вариаций в репертуаре сигналов — важный первый шаг в начале определения размера репертуара.Однако необходимо выйти за рамки этого и перейти к эмпирическому изучению и пониманию того, как сигналы используются сигнальщиками и как эти сигналы, в свою очередь, влияют на поведение получателя (например, различные теоретические подходы, такие как анализ оценки и управления [7] и значение сообщения анализ [33]), потому что это изучение и понимание могут, в свою очередь, пролить свет на природу и структуру самой социальной группы.
Сигналы репертуара часто отличаются градуированными вариациями. Например, два визуальных дисплея у видов приматов, кроме человека, могут использоваться людьми в функционально различных контекстах и могут быть надежно различимы как людьми-наблюдателями, так и представителями определенного вида.Однако два дисплея могут иметь общие лицевые мышцы и лежащие в основе нейрофизиологические основы и, в зависимости от аффективного или мотивационного состояния, могут позволить отдельному сигнальщику постепенно переходить от одного дисплея к другому. Точно так же надежно различимые голосовые сигналы с вокальным репертуаром птиц и млекопитающих могут, тем не менее, переходить от одного к другому. Более того, хотя сигналы часто описываются типологическими способами, внутри сигнала часто наблюдаются значительные вариации. Градуированные вариации внутри и между сигналами могут обеспечить дополнительное измерение коммуникативной сложности [34–37].
Точно так же надежно различимые голосовые сигналы с вокальным репертуаром птиц и млекопитающих могут, тем не менее, переходить от одного к другому. Более того, хотя сигналы часто описываются типологическими способами, внутри сигнала часто наблюдаются значительные вариации. Градуированные вариации внутри и между сигналами могут обеспечить дополнительное измерение коммуникативной сложности [34–37].
Второй важный способ, которым исследователи пытались измерить коммуникативную сложность, основан на теории информации и математической теории коммуникации [38]. Формально сложность сигнального канала измеряется его энтропией или неопределенностью — битами информации. Чем больше разнообразие элементов внутри конкретной сигнальной системы, тем больше неопределенность любого конкретного сигнального события, тем больше уменьшается неопределенность после того, как событие создается, и, следовательно, тем больше потенциальной информации или сложности в сигнальной системе в целом.Неформально подход теории информации неявно применяется всякий раз, когда исследователи классифицируют сложность на основе количества различных компонентов или элементов, составляющих данный сигнал (например, количество нот в данном вызове [39] или изменение амплитуды движений дисплея [40]). Более подробная информация предполагает большее количество различных сообщений и значений, возможных в системе сигнализации, но вопрос о сообщениях и значениях должен быть решен с помощью чувствительных мер производства сигнала отправителями в различных контекстах и экспериментов по восприятию / распознаванию сигналов с помощью приемники.Например, исследователи могут статистически различать несколько элементов в сигнале, но это может не совпадать с тем, на что животные на самом деле обращают внимание или даже различать в сигнале [41].
Более подробная информация предполагает большее количество различных сообщений и значений, возможных в системе сигнализации, но вопрос о сообщениях и значениях должен быть решен с помощью чувствительных мер производства сигнала отправителями в различных контекстах и экспериментов по восприятию / распознаванию сигналов с помощью приемники.Например, исследователи могут статистически различать несколько элементов в сигнале, но это может не совпадать с тем, на что животные на самом деле обращают внимание или даже различать в сигнале [41].
Для обоих этих типичных методов измерения коммуникативной сложности исследователи, проверяющие потенциальную роль социальной сложности, редко обращаются напрямую к реальным способам, которыми вариации в сигналах отправителей влияют на поведение получателей. Критически относясь к одному из наших исследований, например, Freeberg [42] экспериментально продемонстрировал, что размер группы может вызывать изменения в сложности голосовых сигналов у каролинских кур ( Poecile carolinensis ; исследование, описанное более подробно в § 3 a ), но не задокументировано, как эти изменения в сигнализации повлияли на способы, которыми отправители и получатели взаимодействуют друг с другом. Проблема особенно остро стоит в крупных сравнительных исследованиях, которые оценивают причины вариации сигналов среди близкородственных таксонов с использованием отчетов из первичной литературы, в которых обобщается информация о сигналах или размер репертуара сигналов для данного вида [40,43]. В большинстве случаев неизвестно, как вариации в передаче сигналов, передаваемые отдельными лицами этих видов, вызывают изменения в поведении получателя. Это не означает, что большие сравнительные исследования не имеют ценности; напротив, они могут предложить одни из самых убедительных доказательств в поддержку гипотезы о том, как могла развиваться коммуникация.Это также верно и для экспериментальных манипуляций социальной структурой, подобных упомянутой выше [42]. Но очевидно, что как сравнительные, так и экспериментальные исследования необходимо уравновесить какой-либо формой подтверждения того, что изменение сложности сигнала является функциональным (вызывает разные отклики от приемников). Таким образом, будущие исследования связей между социальной сложностью, с одной стороны, и коммуникативной сложностью, с другой, должны подчеркивать и раскрывать способы использования вариаций сигналов сигнальщиками в их оценке и управлении поведением других людей.
Проблема особенно остро стоит в крупных сравнительных исследованиях, которые оценивают причины вариации сигналов среди близкородственных таксонов с использованием отчетов из первичной литературы, в которых обобщается информация о сигналах или размер репертуара сигналов для данного вида [40,43]. В большинстве случаев неизвестно, как вариации в передаче сигналов, передаваемые отдельными лицами этих видов, вызывают изменения в поведении получателя. Это не означает, что большие сравнительные исследования не имеют ценности; напротив, они могут предложить одни из самых убедительных доказательств в поддержку гипотезы о том, как могла развиваться коммуникация.Это также верно и для экспериментальных манипуляций социальной структурой, подобных упомянутой выше [42]. Но очевидно, что как сравнительные, так и экспериментальные исследования необходимо уравновесить какой-либо формой подтверждения того, что изменение сложности сигнала является функциональным (вызывает разные отклики от приемников). Таким образом, будущие исследования связей между социальной сложностью, с одной стороны, и коммуникативной сложностью, с другой, должны подчеркивать и раскрывать способы использования вариаций сигналов сигнальщиками в их оценке и управлении поведением других людей.
(c) Прогнозы гипотезы социальной сложности
Основываясь на этих более ранних аргументах и идеях, гипотеза социальной сложности для коммуникативной сложности дает ряд четких, проверяемых прогнозов относительно сложности коммуникативных систем у видов или групп, которые различаются в зависимости от аспекты социальной сложности (вставка 2). Эти прогнозы представляют собой как сравнительный, так и экспериментальный подходы к конечным (филогенетическим) и ближайшим (эволюционным) вопросам, которые исследователи могут задать о коммуникативном разнообразии в изучаемых ими видах / популяциях / группах.
Вставка 2.
Предсказания гипотезы социальной сложности для коммуникативной сложности.
При обсуждении этих прогнозов ниже мы будем использовать «единицы» для обозначения первичного уровня анализа социальных групп или сетей индивидуумов для определенного вида или популяции. Эти единицы могут быть группами в традиционном смысле, соседями по территории, пулом потенциальных партнеров или любой сетью, в которой животные часто взаимодействуют друг с другом. Дополнительно отметим, что следующие прогнозы не являются исчерпывающими. Наконец, эти прогнозы предполагают, что единицы относительно стабильны (например, группы с одними и теми же отдельными членами в пространстве и в течение некоторого времени). Ближе к концу этого раздела мы рассматриваем нестабильные единицы — например, группы, индивидуальное членство в которых непостоянно и меняется во времени или пространстве.
Дополнительно отметим, что следующие прогнозы не являются исчерпывающими. Наконец, эти прогнозы предполагают, что единицы относительно стабильны (например, группы с одними и теми же отдельными членами в пространстве и в течение некоторого времени). Ближе к концу этого раздела мы рассматриваем нестабильные единицы — например, группы, индивидуальное членство в которых непостоянно и меняется во времени или пространстве.
(i) Размер единицы
На самом базовом уровне таксоны, в которых животные взаимодействуют с большим пулом сородичей, обычно будут иметь большую социальную сложность, чем те таксоны, в которых животные взаимодействуют с меньшим количеством сородичей, и поэтому мы можем предсказать большую коммуникативную способность. сложность таксонов с более крупными единицами (группы, стайки, стаи, территориальные сети и т. д.)). Это связано с тем, что по мере того, как количество людей в сети увеличивается до n , количество различных возможных ненаправленных индивидуально-индивидуальных отношений в сети увеличивается до [ n ( n — 1 ) / 2 ]. Сеть из двух человек имеет одно возможное отношение (A – B), сеть из четырех человек имеет шесть возможных отношений (A – B, A – C, A – D, B – C, B – D, C – D), а сеть из восьми человек имеет 28 возможных родственников. Для направленных отношений, в которых отношение между индивидуальным X и индивидуальным Y рассматривается как отличное от отношения между индивидуальным Y и индивидуальным X, справедлив тот же аргумент с числом возможных отношений, равным n ( n — 1). ).
Сеть из двух человек имеет одно возможное отношение (A – B), сеть из четырех человек имеет шесть возможных отношений (A – B, A – C, A – D, B – C, B – D, C – D), а сеть из восьми человек имеет 28 возможных родственников. Для направленных отношений, в которых отношение между индивидуальным X и индивидуальным Y рассматривается как отличное от отношения между индивидуальным Y и индивидуальным X, справедлив тот же аргумент с числом возможных отношений, равным n ( n — 1). ).
В какой-то момент размер группы должен стать слишком большим, чтобы отдельные люди могли узнавать или запоминать каждого другого человека в группе, не говоря уже о том, чтобы постоянно обновлять предыдущие взаимодействия с каждым другим человеком в группе. Учитывая затраты на социальное познание [44,45], должен быть верхний предел количества особей, которых можно запомнить для каждого вида или популяции. Например, геладас, Theropithecus gelada , встречается огромными группами, которые часто в несколько раз больше, чем группы близкородственных павианов чакма, Papio ursinus . Исследование воспроизведения с целью проверки распознавания голоса людей в геладах показало, что самцы гелад могут распознавать гораздо меньше людей, чем сеть людей, с которыми они регулярно контактировали [46]. Это поддерживает представление о стоимости социального познания, ограничивающей коммуникативную сложность в очень больших группах. Бергман [46] предположил, что основная «группа» у гелад, вероятно, на несколько порядков меньше, чем скопления, в которых они встречаются — «одна мужская единица», состоящая из самца-лидера, небольшого числа последователей самцов и самок и их потомков. по сравнению с несколькими сотнями особей, которые могут составлять скопление.Таким образом, простой размер единицы может иметь ограничения в качестве меры социальной сложности, если сравниваемые единицы достаточно велики или различаются по тому, насколько они стабильны или подвижны в структуре элементов. Простой размер единицы, казалось бы, обеспечивает более надежную меру социальной сложности, когда сравниваемые единицы стабильны и меньше (например, средний размер группы вида X из восьми особей по сравнению со средним размером группы вида Y из 24 особей).
Исследование воспроизведения с целью проверки распознавания голоса людей в геладах показало, что самцы гелад могут распознавать гораздо меньше людей, чем сеть людей, с которыми они регулярно контактировали [46]. Это поддерживает представление о стоимости социального познания, ограничивающей коммуникативную сложность в очень больших группах. Бергман [46] предположил, что основная «группа» у гелад, вероятно, на несколько порядков меньше, чем скопления, в которых они встречаются — «одна мужская единица», состоящая из самца-лидера, небольшого числа последователей самцов и самок и их потомков. по сравнению с несколькими сотнями особей, которые могут составлять скопление.Таким образом, простой размер единицы может иметь ограничения в качестве меры социальной сложности, если сравниваемые единицы достаточно велики или различаются по тому, насколько они стабильны или подвижны в структуре элементов. Простой размер единицы, казалось бы, обеспечивает более надежную меру социальной сложности, когда сравниваемые единицы стабильны и меньше (например, средний размер группы вида X из восьми особей по сравнению со средним размером группы вида Y из 24 особей). Отчасти это отражает сложность уравнивания типов групп по видам: для таких видов, как бабуины, которые живут в дискретных, стабильных социальных группах, «группа» обычно очевидна; но для таких видов, как гелада, которые живут в многоуровневых социальных системах с динамикой деления-слияния, не всегда очевидно, каков на самом деле эквивалентный уровень группировки [47].
Отчасти это отражает сложность уравнивания типов групп по видам: для таких видов, как бабуины, которые живут в дискретных, стабильных социальных группах, «группа» обычно очевидна; но для таких видов, как гелада, которые живут в многоуровневых социальных системах с динамикой деления-слияния, не всегда очевидно, каков на самом деле эквивалентный уровень группировки [47].
(ii) Плотность единиц
Социальные единицы, которые встречаются с высокой плотностью, приводят к тому, что индивиды взаимодействуют друг с другом с большей скоростью просто из-за более близкой пространственной близости. Учитывая более высокую скорость взаимодействия при высокой плотности, мы ожидаем увидеть большее разнообразие взаимодействий между людьми и, таким образом, предсказуем большую коммуникативную сложность для таких людей по сравнению с людьми в единицах с низкой плотностью. Этот аргумент о плотности единиц является одним из способов, при помощи которых две единицы с равным числом людей могут, тем не менее, иметь разную социальную и коммуникативную сложность.
(iii) Роли членов подразделения
Единицы, в которых существует большее количество различных социальных ролей, представляют большую социальную сложность, чем единицы с очень небольшим количеством различных социальных ролей. Например, одна группа может содержать пострепродуктивных самок и самцов, репродуктивных самок и самцов, репродуктивно зрелых, но не размножающихся молодых взрослых особей, группы потомства из предыдущего сезона размножения и множества текущего потомства, тогда как другая группа может содержать репродуктивных самок. и самцы и их группы текущего потомства.Первая группа будет больше представлять собой «информационный центр» и в большей степени единицу коллективного адаптивного поведения из-за разнообразия социальных ролей по сравнению со второй группой. Таким образом, мы могли бы предсказать большую сложность коммуникативных сигналов в единицах с более отчетливыми социальными ролями по сравнению с группами с меньшим количеством различных социальных ролей. Этот аргумент о ролях членов отряда — еще один способ, которым две единицы с равным числом людей могут, тем не менее, иметь разную социальную и коммуникативную сложность.
Этот аргумент о ролях членов отряда — еще один способ, которым две единицы с равным числом людей могут, тем не менее, иметь разную социальную и коммуникативную сложность.
(iv) Эгалитарная структура единиц
У многих видов с относительно стабильными многоиндивидуальными единицами существуют относительно стабильные иерархии доминирования среди членов. Сильно линейные иерархии доминирования — это иерархии, в которых наиболее доминирующий индивидуум вытесняет (как один поведенческий пример) всех других членов и не вытесняется никем, второй по величине доминирующий индивидуум вытесняет всех других членов, кроме наиболее доминирующего индивидуума, и не вытесняется никем. кроме наиболее доминирующего индивида и так далее до самого низа иерархии и наименее доминирующего, наиболее подчиненного индивида.В таких крутых линейных иерархиях степень возможных отношений внутри подразделения — особенно в форме направленных отношений — часто сильно ограничивается иерархией. В более эгалитарных обществах, в которых отсутствует строго линейная иерархия («умеренный деспотизм» у Schjelderup-Ebbe [13]), по определению наблюдается больше обращений агонистических взаимодействий, так что наиболее доминирующие индивидуумы вытесняют (продолжая поведенческий пример) всех других индивидуумов. больше, чем они вытесняют его, но многие из них иногда вытесняют его, и так далее по иерархии до наименее доминирующего, наиболее подчиненного человека.Помимо показателей агонистического поведения и иерархий доминирования, для оценки того, насколько эгалитарной или деспотичной может быть группа, могут оказаться полезными меры аффилиативного или сближения и приспособления взаимодействий. Теория сетей предлагает набор различных индексов социальных структур в группах, которые должны обеспечивать чувствительные показатели социальной сложности и разнообразия направленных отношений внутри групп [48–52]. Из-за большего разнообразия направленных отношений более эгалитарные сети должны обладать большей коммуникативной сложностью, чем менее эгалитарные, более «деспотические» группы.Этот аргумент эгалитарной структуры — еще один из способов, при помощи которых две единицы с равным числом людей могут, тем не менее, иметь разную социальную и коммуникативную сложность.
больше, чем они вытесняют его, но многие из них иногда вытесняют его, и так далее по иерархии до наименее доминирующего, наиболее подчиненного человека.Помимо показателей агонистического поведения и иерархий доминирования, для оценки того, насколько эгалитарной или деспотичной может быть группа, могут оказаться полезными меры аффилиативного или сближения и приспособления взаимодействий. Теория сетей предлагает набор различных индексов социальных структур в группах, которые должны обеспечивать чувствительные показатели социальной сложности и разнообразия направленных отношений внутри групп [48–52]. Из-за большего разнообразия направленных отношений более эгалитарные сети должны обладать большей коммуникативной сложностью, чем менее эгалитарные, более «деспотические» группы.Этот аргумент эгалитарной структуры — еще один из способов, при помощи которых две единицы с равным числом людей могут, тем не менее, иметь разную социальную и коммуникативную сложность.
(v) Размер жилища и ареала единицы
Когда группы или отдельные лица имеют относительно небольшие ареалы проживания, из-за большей плотности людей в окрестностях они, вероятно, будут взаимодействовать с другими (дополнительными) людьми с большей скоростью [ 53]. Если домашние ареалы стабильны не только в пространстве, но и в течение длительных периодов времени, животные, вероятно, будут взаимодействовать с одними и теми же людьми на границах домашнего ареала в течение длительных периодов времени.В более рассредоточенных таксонах с более крупными ареалами обитания уровень социальных взаимодействий с дополнительными единицами будет ниже. Таким образом, мы могли бы ожидать более широкую и более сложную социальную сеть для таксонов с меньшими ареалами обитания и, таким образом, предсказывать большую коммуникативную сложность по сравнению с таксонами с более крупными ареалами обитания, предполагая аналогичные общие скорости передвижения.
Если домашние ареалы стабильны не только в пространстве, но и в течение длительных периодов времени, животные, вероятно, будут взаимодействовать с одними и теми же людьми на границах домашнего ареала в течение длительных периодов времени.В более рассредоточенных таксонах с более крупными ареалами обитания уровень социальных взаимодействий с дополнительными единицами будет ниже. Таким образом, мы могли бы ожидать более широкую и более сложную социальную сеть для таксонов с меньшими ареалами обитания и, таким образом, предсказывать большую коммуникативную сложность по сравнению с таксонами с более крупными ареалами обитания, предполагая аналогичные общие скорости передвижения.
(vi) Стабильные и нестабильные блоки
Трудно произвести однозначный прогноз в отношении блоков, которые различаются по устойчивости элементов.Как описано выше в отношении размеров единиц, которые могут быть внешне огромными (например, сотни гелад в скоплении или «стаде»), но чьи основные единицы могут быть значительно меньше (например, десятки гелад в единицах из одного самца), единицы, которые являются очень изменчивые с точки зрения членства, их трудно охарактеризовать с помощью более простых показателей, таких как размер единицы или плотность единицы. Особи некоторых видов всегда можно найти в группах, но для каждого отдельного человека сеть взаимодействующих особей может полностью измениться со временем.С другой стороны, у некоторых видов с подвижной социальной структурой социальная сеть индивида может быть измеримой и конечной. Например, большие синицы, Parus major , представляют собой разновидность парных певчих птиц, которые демонстрируют «базовую структуру стада» — особи встречаются в стаях, которые меняют свой состав с течением времени и смешиваются с особями других стай в космосе. Сообщается, что размеры стаи больших синиц достигают 20–50 особей [54,55] или редко состоят из более чем двух особей [54,56].Возможно, разные методологии, определения стад и временные рамки этих исследований являются причиной разных оценок размера групп. В любом случае мы считаем, что у видов с нестабильной или даже полустабильной (например, большие синицы) групповой структурой исследователи должны уделять гораздо больше внимания измерениям социальных сетей, таким как оценки размера сети, разнообразия и эгалитарной структуры, о которых говорилось выше.
Особи некоторых видов всегда можно найти в группах, но для каждого отдельного человека сеть взаимодействующих особей может полностью измениться со временем.С другой стороны, у некоторых видов с подвижной социальной структурой социальная сеть индивида может быть измеримой и конечной. Например, большие синицы, Parus major , представляют собой разновидность парных певчих птиц, которые демонстрируют «базовую структуру стада» — особи встречаются в стаях, которые меняют свой состав с течением времени и смешиваются с особями других стай в космосе. Сообщается, что размеры стаи больших синиц достигают 20–50 особей [54,55] или редко состоят из более чем двух особей [54,56].Возможно, разные методологии, определения стад и временные рамки этих исследований являются причиной разных оценок размера групп. В любом случае мы считаем, что у видов с нестабильной или даже полустабильной (например, большие синицы) групповой структурой исследователи должны уделять гораздо больше внимания измерениям социальных сетей, таким как оценки размера сети, разнообразия и эгалитарной структуры, о которых говорилось выше. Эти меры, вероятно, предоставят более точные метрики для сравнения социальной сложности различных видов или популяций, чем более простые метрики, такие как размер группы.
Эти меры, вероятно, предоставят более точные метрики для сравнения социальной сложности различных видов или популяций, чем более простые метрики, такие как размер группы.
3. Краткий обзор свидетельств того, что социальная сложность влияет на коммуникативную сложность
Здесь мы кратко рассмотрим работу на сегодняшний день о потенциальных связях между социальной сложностью и коммуникативной сложностью у видов животных. В большей части этой работы использовались сравнительные подходы с участием двух или более видов, при этом некоторые применяли филогенетические сравнительные методы [40] для проверки роли социальной сложности в коммуникативной сложности в рамках явной эволюционной структуры. В более поздних исследованиях все чаще используются новые наборы поведенческих данных, охватывающие несколько видов, для выполнения филогенетического сравнительного анализа, который проверяет, в какой степени социальная сложность лежит в основе эволюции коммуникативной сложности между видами.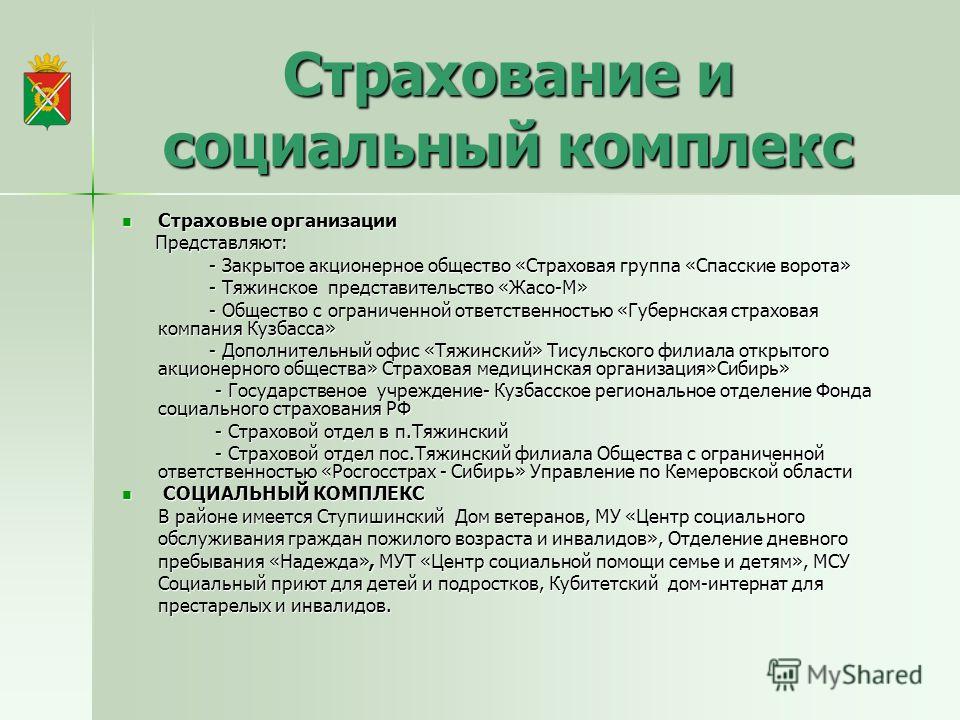 Сравнительный метод — мощный инструмент для проверки гипотезы социальной сложности, и мы надеемся, что больше исследователей будут использовать такие подходы и растущую доступность больших наборов поведенческих данных в будущем. Еще одно направление, которое может оказаться плодотворным, — это подход к развитию, который будет особенно информативным для определения пластичности коммуникативной сложности внутри видов как функции социальной среды. У молодых людей, рожденных или вылупившихся из более сложных в социальном отношении групп, в конечном итоге развивается более сложная коммуникативная система по сравнению с людьми, рожденными или вылупившимися из менее сложных групп? Этот приблизительный подход может предложить мощный способ проверить гипотезу социальной сложности, поскольку этот подход может предлагать экспериментальную проверку на некоторых видах.Если исследователи смогут экспериментально манипулировать социальной сложностью групп, они смогут напрямую проверить, является ли социальная сложность причинным фактором коммуникативной сложности людей.
Сравнительный метод — мощный инструмент для проверки гипотезы социальной сложности, и мы надеемся, что больше исследователей будут использовать такие подходы и растущую доступность больших наборов поведенческих данных в будущем. Еще одно направление, которое может оказаться плодотворным, — это подход к развитию, который будет особенно информативным для определения пластичности коммуникативной сложности внутри видов как функции социальной среды. У молодых людей, рожденных или вылупившихся из более сложных в социальном отношении групп, в конечном итоге развивается более сложная коммуникативная система по сравнению с людьми, рожденными или вылупившимися из менее сложных групп? Этот приблизительный подход может предложить мощный способ проверить гипотезу социальной сложности, поскольку этот подход может предлагать экспериментальную проверку на некоторых видах.Если исследователи смогут экспериментально манипулировать социальной сложностью групп, они смогут напрямую проверить, является ли социальная сложность причинным фактором коммуникативной сложности людей.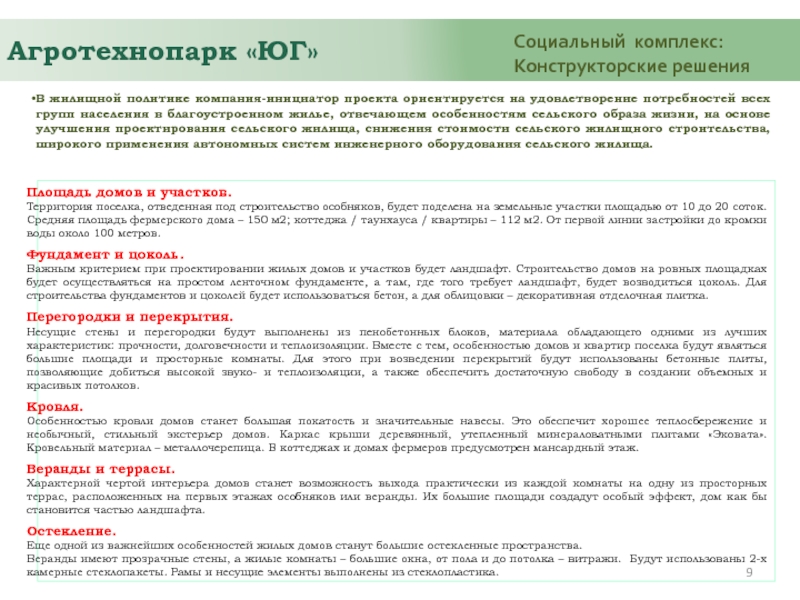
Мы начинаем с обсуждения наиболее изученного сигнального канала для гипотезы социальной сложности — голосовой сигнализации. Затем мы обсуждаем некоторую работу, которая была проделана по другому каналу — визуальной сигнализации. Исследования других модальностей сигналов реже, и они оставлены для следующего раздела (см. § 5).Мы действительно отмечаем захватывающие события в вопросе социальной сложности и разнообразия химических сигналов, зарегистрированные недавно у нечеловеческих видов приматов [57,58].
(a) Акустический канал
Большинство современных доказательств гипотезы социальной сложности получено в результате изучения голосовой коммуникации. Это не следует рассматривать как свидетельство того, что социальная сложность играет более важную роль в эволюции сложности слухового канала по сравнению с другими модальностями сигнала. Скорее, это скорее отражает акцент на вокализации при изучении общения животных в более общем плане.Это понятно, учитывая, насколько звуки животных знакомы людям (большинство людей ценят красоту пения птиц, в то время как немногие люди — даже биологи! — даже осведомлены о сложных визуальных эффектах, выполняемых некоторыми рептилиями и другими животными), а также из-за раннего разработка методов количественной оценки и экспериментирования со звуками животных, особенно в полевых условиях [59].
В одном из самых ранних наборов данных, предполагающих роль социальной сложности в сложности голосовых сигналов, Крудсма [60] описал размер песенного репертуара у девяти видов крапивников (семейство Troglodytidae).Основным результатом исследования была взаимосвязь между системой спаривания и размером песенного репертуара. Самцы у высоко полигамных видов имели гораздо больший репертуар песен, чем самцы у более моногамных видов, что предполагает роль полового отбора в размере песенного репертуара. Дополнительный результат, полученный в результате исследования, связан с частотой внутривидовых встреч — те виды, у которых особи встречаются с наивысшей видовой плотностью и с относительно низким разнообразием других видов птиц, как правило, имеют больший и более сложный репертуар песен, чем те виды, у которых встречаются особи. при более низкой плотности вида.
Blumstein & Armitage [61] выполнили первую явную сравнительную проверку гипотезы социальной сложности, используя данные о 22 видах наземных щитовидных (род = Cynomus , четыре вида; Marmota , семь видов; Spermophilus ). , 11 видов). Авторы оценили социальную сложность с помощью расчетов по теории информации, которые учитывали разнообразие различных социальных ролей в группах каждого вида. Коммуникативная сложность описывалась количеством отчетливых сигналов тревоги, которыми обладал каждый вид.Авторы обнаружили общую положительную взаимосвязь между их индексом социальной сложности и количеством тревожных сигналов в репертуаре видов, хотя эффект был чувствителен к конкретному филогенетическому дереву, используемому в анализе. Однако Pollard & Blumstein [62] обновили этот анализ, используя самую последнюю информацию о филогении sciurid, и подтвердили этот предыдущий результат. Данные другой группы млекопитающих — семейства Herpestidae — дополнительно подтверждают выводы Блюмштейна и Армитиджа. Например, социальные виды мангустов, такие как облигатно социальные сурикаты, Suricata suricatta , [63,64] и факультативно социальные желтые мангусты, Cynictis penicillata , [65] имеют более разнообразные системы призывов, особенно с точки зрения криков.
, 11 видов). Авторы оценили социальную сложность с помощью расчетов по теории информации, которые учитывали разнообразие различных социальных ролей в группах каждого вида. Коммуникативная сложность описывалась количеством отчетливых сигналов тревоги, которыми обладал каждый вид.Авторы обнаружили общую положительную взаимосвязь между их индексом социальной сложности и количеством тревожных сигналов в репертуаре видов, хотя эффект был чувствителен к конкретному филогенетическому дереву, используемому в анализе. Однако Pollard & Blumstein [62] обновили этот анализ, используя самую последнюю информацию о филогении sciurid, и подтвердили этот предыдущий результат. Данные другой группы млекопитающих — семейства Herpestidae — дополнительно подтверждают выводы Блюмштейна и Армитиджа. Например, социальные виды мангустов, такие как облигатно социальные сурикаты, Suricata suricatta , [63,64] и факультативно социальные желтые мангусты, Cynictis penicillata , [65] имеют более разнообразные системы призывов, особенно с точки зрения криков. связаны с принадлежностью — по сравнению с более одиночными видами мангустов, такими как стройные мангусты, Herpestes sanguineus [66].
связаны с принадлежностью — по сравнению с более одиночными видами мангустов, такими как стройные мангусты, Herpestes sanguineus [66].
Wilkinson [67] сравнил сложность вызовов изоляции младенцев восьми разных видов летучих мышей и обнаружил сильную положительную взаимосвязь между размером колонии вида и объемом информации в их системах вызова изоляции. Интерпретация здесь заключается в том, что у видов с огромными размерами колоний, таких как мексиканская / бразильская летучая мышь со свободным хвостом, Tadarida brasiliensis , существует потребность в максимальной индивидуальной различимости в звуках изоляции, чтобы увеличить шансы на распознавание родитель-младенец.У видов с гораздо меньшим размером колонии, таких как летучие мыши Шлиффена, Nycticeinops schleffenii , которые часто насиживают одиночно, система изоляционных вызовов содержит гораздо меньше информации — гораздо меньше вариаций в акустических параметрах звуков у младенцев этих видов. С другой стороны, хотя размер группы, по-видимому, является сильным предиктором сложности вызова для этой единственной системы вызова, в других аспектах вокального репертуара летучих мышей мало свидетельств, позволяющих предположить связь между социальной сложностью (например, стабильностью социальных групп и социальной структурой). связи между людьми) и вокальной сложности [67].
связи между людьми) и вокальной сложности [67].
Наконец, Маккомб и Семпл [68] сравнили данные о размерах групп, времени, которое люди потратили на уход (как меру социальных связей) и размере вокального репертуара для 42 видов приматов, кроме человека. Используя филогенетический сравнительный анализ, они обнаружили, что размер группы и время, затрачиваемое на уход за шерстью, прямо положительно связаны с размером вокального репертуара у этих видов. Эти результаты согласуются с утвержденным здесь представлением о том, что увеличение социальной сложности (размера группы и времени, затрачиваемого на уход) может привести к увеличению сложности вокала.Однако авторы также указали, что направление причинной связи было неясным, потому что половой или естественный отбор мог первоначально привести к эволюции вокальной сложности, которая затем сделала возможными большие размеры групп или более сложные социальные структуры у этих видов.
Freeberg [42] провел экспериментальное исследование с цыплятами Каролины, Poecile carolinensis , которое позволило провести более подробный причинно-следственный анализ. Зависимым показателем в исследовании был объем информации в телефонных разговорах отдельных лиц.Этот призыв является наиболее распространенным голосовым сигналом, используемым людьми в течение года, и действует в социальной сплоченности [69–72]. Кажется, существует взаимосвязь между производительностью криков цыплят и социальной принадлежностью у этого вида. Пленные самцы, которых часто находили в непосредственной близости со своей компаньонкой-самкой, производили больше криков цыпленка по сравнению с самцами, которые редко встречались в непосредственной близости от той же самки, с которой они были размещены [73]. В экспериментальном исследовании [42] в вольерах были сформированы содержащиеся в неволе стаи цыплят, размер группы которых варьировался из двух, четырех или шести птиц (что находится в диапазоне нормальных размеров стада для данной популяции).Примерно после одного месяца такого содержания в неволе птицы в стаях большего размера начали кричать «цыпленок» с большей информацией, чем птицы из стай меньшего размера.
Зависимым показателем в исследовании был объем информации в телефонных разговорах отдельных лиц.Этот призыв является наиболее распространенным голосовым сигналом, используемым людьми в течение года, и действует в социальной сплоченности [69–72]. Кажется, существует взаимосвязь между производительностью криков цыплят и социальной принадлежностью у этого вида. Пленные самцы, которых часто находили в непосредственной близости со своей компаньонкой-самкой, производили больше криков цыпленка по сравнению с самцами, которые редко встречались в непосредственной близости от той же самки, с которой они были размещены [73]. В экспериментальном исследовании [42] в вольерах были сформированы содержащиеся в неволе стаи цыплят, размер группы которых варьировался из двух, четырех или шести птиц (что находится в диапазоне нормальных размеров стада для данной популяции).Примерно после одного месяца такого содержания в неволе птицы в стаях большего размера начали кричать «цыпленок» с большей информацией, чем птицы из стай меньшего размера. Больше информации в этих звуках происходило из большего разнообразия типов нот и комбинаций типов нот в произведенных криках — птицы в более крупных группах издавали крики с большим разнообразием в составе нот по сравнению с птицами в меньших группах. Различия в составе нот в криках цыплят этого вида были связаны с обнаружением хищников [74–76], обнаружением пищи [77,78] и поведением сигнальщиков в полете [79,80].Исследование Freeberg [42] представило первое экспериментальное свидетельство того, что различия в социальной сложности (размер группы) могут приводить к пластическим изменениям вокальной сложности (информация в голосовых сигнальных системах). Эти различия в количестве информации в криках цыплят-ди-индивидов в экспериментально измененных размерах групп совпадали с различиями в криках, полученных в результате естественных наблюдений за дикими цикади, которые различались по размеру группы во время записи.
Больше информации в этих звуках происходило из большего разнообразия типов нот и комбинаций типов нот в произведенных криках — птицы в более крупных группах издавали крики с большим разнообразием в составе нот по сравнению с птицами в меньших группах. Различия в составе нот в криках цыплят этого вида были связаны с обнаружением хищников [74–76], обнаружением пищи [77,78] и поведением сигнальщиков в полете [79,80].Исследование Freeberg [42] представило первое экспериментальное свидетельство того, что различия в социальной сложности (размер группы) могут приводить к пластическим изменениям вокальной сложности (информация в голосовых сигнальных системах). Эти различия в количестве информации в криках цыплят-ди-индивидов в экспериментально измененных размерах групп совпадали с различиями в криках, полученных в результате естественных наблюдений за дикими цикади, которые различались по размеру группы во время записи.
(b) Визуальный канал
Одним из первых крупных сравнительных исследований для оценки связи между социальной сложностью и сложностью визуальных сигналов было исследование Роувера [81] изменения оперения у 29 видов птиц (отряды Piciformes и Passeriformes) в отношении структура социальной группировки в месяцы перезимовки.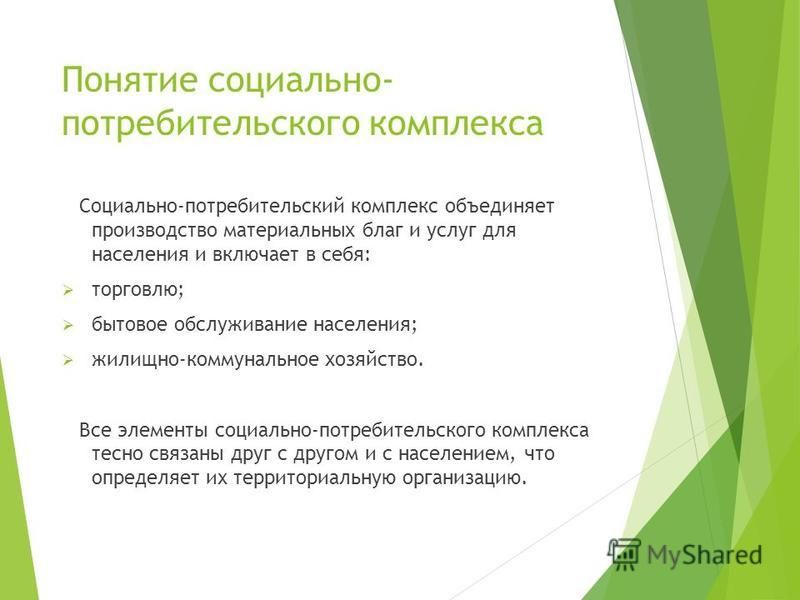 Виды, которые «стекались», обладали большей изменчивостью оперения, чем виды, которые «обитали / разошлись». Интерпретация Роуэра заключалась в том, что большая индивидуальная самобытность в оперении необходима в больших социальных группах для индивидуального распознавания или для оценки статуса относительного доминирования, и такая изменчивость оперения не требуется в одиночных или очень маленьких группах (например, парах самка-самец), которые защищают территории [ 81]. Очень необходимым продолжением этой работы будет сравнительный анализ, который включает филогенетические отношения между сравниваемыми видами.
Виды, которые «стекались», обладали большей изменчивостью оперения, чем виды, которые «обитали / разошлись». Интерпретация Роуэра заключалась в том, что большая индивидуальная самобытность в оперении необходима в больших социальных группах для индивидуального распознавания или для оценки статуса относительного доминирования, и такая изменчивость оперения не требуется в одиночных или очень маленьких группах (например, парах самка-самец), которые защищают территории [ 81]. Очень необходимым продолжением этой работы будет сравнительный анализ, который включает филогенетические отношения между сравниваемыми видами.
Maestripieri [82] сравнил три вида макак (род Macaca ) с точки зрения их уровня социальной сплоченности и разнообразия использования жестов в их репертуаре визуального отображения. Эти три вида были довольно похожи друг на друга в использовании жестов доминирования и подчинения, но они различались в использовании жестов принадлежности и привязанности. Макаки-резус ( Macaca mulatta ), наиболее деспотичные из трех видов и имеющие наибольшее социальное избегание, использовали значительно меньше жестов в общих социальных взаимодействиях и контекстах по сравнению с двумя видами с большей социальной сложностью. Хотя трудно сделать какие-либо убедительные утверждения с эффективным N из 3, эти данные, тем не менее, согласуются с гипотезой социальной сложности. Совсем недавно Добсон [83] провел исследование 12 видов приматов, отличных от человека, и сравнил размер группы с разнообразием выражений лиц, используемых представителями этих видов. Используя филогенетический подход, Добсон [83] обнаружил, что размер группы приматов, отличных от человека, является сильным предиктором разнообразия мимики. Если взять вместе эти два исследования нечеловеческих приматов, то мы получим поддержку раннего представления, выдвинутого Дарвином [5], что у социально сложных видов жесты и выражения должны быть столь же важны для передачи сигналов, как и голосовые сигналы.
Хотя трудно сделать какие-либо убедительные утверждения с эффективным N из 3, эти данные, тем не менее, согласуются с гипотезой социальной сложности. Совсем недавно Добсон [83] провел исследование 12 видов приматов, отличных от человека, и сравнил размер группы с разнообразием выражений лиц, используемых представителями этих видов. Используя филогенетический подход, Добсон [83] обнаружил, что размер группы приматов, отличных от человека, является сильным предиктором разнообразия мимики. Если взять вместе эти два исследования нечеловеческих приматов, то мы получим поддержку раннего представления, выдвинутого Дарвином [5], что у социально сложных видов жесты и выражения должны быть столь же важны для передачи сигналов, как и голосовые сигналы.
В исследовании нептичьих рептилий Ord et al. [84] оценил репертуар различных поз, которые развивают основные визуальные проявления «кивка головы» и «отталкивания» 122 территориальных видов ящериц (семейства Iguanidae и Agamidae). Авторы использовали филогенетические регрессии и реконструкции состояния предков, чтобы показать, что наличие небольшого ареала обитания в значительной степени предсказывало наличие у видов большого репертуара модификаторов отображения, так как это было древесное и охотящееся на движущуюся добычу.Одна из возможностей состоит в том, что небольшие домашние ареалы приводят к большей конкуренции между мужчинами и женщинами на более близких или перекрывающихся территориальных границах, что приводит к усилению давления отбора для более широкого репертуара. Эта интерпретация следует из предыдущего исследования тех же авторов, показывающего положительную взаимосвязь между индексом интенсивности территориальной конкуренции и большим репертуаром [43]. Хотя вариации в половом отборе не всегда должны отражать вариации социальной сложности per se , отбор, который является результатом частых и часто интенсивных социальных взаимодействий (например,г. территориальные встречи, ухаживания) действительно подпадают под наше определение социальной сложности.
Авторы использовали филогенетические регрессии и реконструкции состояния предков, чтобы показать, что наличие небольшого ареала обитания в значительной степени предсказывало наличие у видов большого репертуара модификаторов отображения, так как это было древесное и охотящееся на движущуюся добычу.Одна из возможностей состоит в том, что небольшие домашние ареалы приводят к большей конкуренции между мужчинами и женщинами на более близких или перекрывающихся территориальных границах, что приводит к усилению давления отбора для более широкого репертуара. Эта интерпретация следует из предыдущего исследования тех же авторов, показывающего положительную взаимосвязь между индексом интенсивности территориальной конкуренции и большим репертуаром [43]. Хотя вариации в половом отборе не всегда должны отражать вариации социальной сложности per se , отбор, который является результатом частых и часто интенсивных социальных взаимодействий (например,г. территориальные встречи, ухаживания) действительно подпадают под наше определение социальной сложности. Другая возможность, предложенная авторами, заключается в том, что виды с преимущественно травоядным питанием менее способны защищать территории из-за природы пищевых ресурсов, и поэтому могут столкнуться с меньшим давлением отбора из-за территориальности и, следовательно, из-за агрессивных визуальных сигналов, что приводит к меньшему репертуару модификаторов отображения. у травоядных видов, которые часто имеют большие ареалы обитания [85]. Это также согласуется с гипотезами социальной сложности: по мере того, как интенсивность или частота взаимодействий у травоядных видов уменьшается (снижается социальность), мы могли бы спрогнозировать эволюцию простых сигналов или даже эволюционную потерю этого типа сигнальной системы в целом.
Другая возможность, предложенная авторами, заключается в том, что виды с преимущественно травоядным питанием менее способны защищать территории из-за природы пищевых ресурсов, и поэтому могут столкнуться с меньшим давлением отбора из-за территориальности и, следовательно, из-за агрессивных визуальных сигналов, что приводит к меньшему репертуару модификаторов отображения. у травоядных видов, которые часто имеют большие ареалы обитания [85]. Это также согласуется с гипотезами социальной сложности: по мере того, как интенсивность или частота взаимодействий у травоядных видов уменьшается (снижается социальность), мы могли бы спрогнозировать эволюцию простых сигналов или даже эволюционную потерю этого типа сигнальной системы в целом.
4. Социальная сложность как движущая сила общения
Хотя размер группы и ролевая структура являются важными аспектами социальной сложности, эволюция связанных социальных систем [86] в некоторых линиях млекопитающих и птиц добавляет еще один уровень сложности. Хотя парная моногамия может показаться одной из простейших форм групповой жизни, на самом деле когнитивные потребности для поддержания таких парных отношений во времени кажутся намного большими, чем те, которые требуются для поддержания гораздо более крупных социальных групп, в которых существуют отношения. менее интенсивный, менее структурированный и более случайный [87,88].Одна из причин этого заключается в том, что членам пары необходимо гораздо более тонко оценивать потребности и намерения друг друга, чем в случае, когда отношения носят более случайный и «сиюминутный» характер. Таким образом, в большой социальной группе с беспорядочными спариваниями отношения индивидов могут быть основаны на простой памяти о нескольких последних встречах (кто победил, кто проиграл). Предсказать, как поведет себя другой человек, можно даже на основе общих правил (он больше меня?). Напротив, в связанных отношениях индивиды должны быть лучше знакомы с другим членом диады и иметь возможность более тонко и разборчиво реагировать на сигналы, чтобы не дестабилизировать связь.
Хотя парная моногамия может показаться одной из простейших форм групповой жизни, на самом деле когнитивные потребности для поддержания таких парных отношений во времени кажутся намного большими, чем те, которые требуются для поддержания гораздо более крупных социальных групп, в которых существуют отношения. менее интенсивный, менее структурированный и более случайный [87,88].Одна из причин этого заключается в том, что членам пары необходимо гораздо более тонко оценивать потребности и намерения друг друга, чем в случае, когда отношения носят более случайный и «сиюминутный» характер. Таким образом, в большой социальной группе с беспорядочными спариваниями отношения индивидов могут быть основаны на простой памяти о нескольких последних встречах (кто победил, кто проиграл). Предсказать, как поведет себя другой человек, можно даже на основе общих правил (он больше меня?). Напротив, в связанных отношениях индивиды должны быть лучше знакомы с другим членом диады и иметь возможность более тонко и разборчиво реагировать на сигналы, чтобы не дестабилизировать связь. Приматы довели эту тенденцию до предела, обобщив парные отношения на других людей, чтобы создать «дружбу» [89].
Приматы довели эту тенденцию до предела, обобщив парные отношения на других людей, чтобы создать «дружбу» [89].
Одним из примеров такой социальной сложности является тот факт, что у приматов союзы (обычно опосредованные социальным уходом) устанавливаются задолго до того, как они становятся необходимыми, тогда как у других видов союзы более типичны «сиюминутно» [90]. . Поскольку будущая надежность альянса легко подрывается, например, из-за того, что один участник угрожает другому или не может прийти к его поддержке при нападении третьей стороны, отношения, которые были повреждены таким образом, восстанавливаются почти уникальным процессом. известное как «примирение», при котором одна сторона обычно ухаживает за другой стороной, прикасается к ней или дает ей контактные звонки или другие голосовые сигналы [91–93].Другим примером сложности сигнализации является использование « мета-сигналов », таких как воспроизведение лиц с открытым ртом (ROM) и воспроизведение вокализаций, чтобы прокомментировать значимость действия (по сути, « я собираюсь укусить вас, но не принимайте это всерьез »[94,95]).
Эти поведенческие сложности, связанные со связанными отношениями (и повышенными требованиями к когнитивной обработке, которые, предположительно, лежат в их основе), отражаются в более крупном мозге, и особенно в неокортексе парных видов по сравнению с теми, у кого есть полигамные системы спаривания у млекопитающих и птиц в целом [87 , 96], и в частности у антропоидных приматов [97–99].В более общем плане, этот фазовый переход во взаимоотношениях и сложности сигналов может быть связан с видами навыков ментализации (т. Е. Способностью читать мыслительные состояния другого человека, чтобы понять его намерения и оценить их конкретную точку зрения), которые являются существенной чертой социальная жизнь человека, предшественники которой уже могут быть обнаружены в социальном познании приматов, и, возможно, это связано более широко у птиц и млекопитающих с парной социальностью [99].То, что эти виды навыков ментализации требуют когнитивной работы (и, следовательно, требуют привлечения большего количества нейронного материала для их обработки), было показано нейровизуализационными исследованиями людей, демонстрирующими, что индивидуальные различия в умственных способностях ментализации коррелируют с объемными различиями в тех областях мозга, которые, как известно, иметь важное значение для базовой теории умственных способностей [44,45]. Что еще более важно, оказывается, что существует параметрический эффект на рекрутирование нейронов в этих регионах, когда субъекты работают на все более высоких уровнях преднамеренности [100].
Что еще более важно, оказывается, что существует параметрический эффект на рекрутирование нейронов в этих регионах, когда субъекты работают на все более высоких уровнях преднамеренности [100].
Такие соображения могут привести нас к предположению, что сложность репертуара сигналов должна быть более сложной у таких видов, независимо от размера группы. Хотя это предсказание никогда не проверялось, безусловно, приматы обладают необычно подвижной лицевой мускулатурой [83] и, следовательно, могут иметь более широкий диапазон лицевых сигналов по сравнению с большинством других млекопитающих. Учитывая связанный характер всех групп приматов, мы можем также предсказать, что виды, которые живут в больших полигамных группах, будут иметь более сложные системы коммуникации, чем те, которые живут в моногамных парах.Однако нет никаких доказательств того, что размер репертуара лицевых сигналов или размер голосового репертуара больше у полигамных видов, чем у парных видов, после частичного выделения размера группы (данные Добсона [83]: t = 1,748, df = 10, p = 0,105; используя средние значения для рода, данные McComb & Semple [68]: t = 0,003, df = 20, p = 0,997).
Второй аспект социальной сложности — это разделение группы на несколько слоев, как это обычно бывает у антропоидных приматов (включая людей), но также и у ряда других социально сложных млекопитающих, таких как слоны и косатки [101,102] .Что делает эти социальные системы сложными, так это то, что структура сети не обязательно параллельна размеру социальной группы, а скорее зависит от того факта, что отношения в разных слоях имеют разные качества [103]. Следовательно, можно ожидать, что сложность сигнала связана со структурной сложностью сети , а также с размером группы у этих видов.
Предельным случаем с точки зрения социальной сложности неизбежно является наш собственный вид.Даже по стандартам приматов люди живут в необычно больших и сложно организованных обществах [101,104]. Это заставляет задуматься о том, являются ли репертуары сигналов человека просто пропорционально большими, чем репертуары других приматов (относительно различий в размере групп), или они представляют собой фазовый сдвиг в качественной сложности, чтобы приспособиться к большему размеру и большей сложности человеческих обществ. Несомненно, некоторые обычные невербальные сигналы, подобные приматам, имеют более сложную форму у людей, чем у других близкородственных приматов, таких как обезьяны (например, смех [105,106]).Однако официально эта гипотеза еще не проверена.
Несомненно, некоторые обычные невербальные сигналы, подобные приматам, имеют более сложную форму у людей, чем у других близкородственных приматов, таких как обезьяны (например, смех [105,106]).Однако официально эта гипотеза еще не проверена.
Хотя человеческое выражение лица было изучено довольно подробно, начиная, как мы уже отметили, с самого Дарвина [5], большая часть этого исследования была сосредоточена на демонстрации универсальности или культурной специфики выражений лица человека, которые были несколько захвачены коварными дебатами о природе и воспитании. К сожалению, немногие из этих исследований позволяют нам провести сравнительный кросс-культурный анализ. Большинство из них страдают от дизайнерских проблем (не в последнюю очередь из-за того, что они неизменно включают принудительный выбор названия эмоций из неподвижных фотографий), что затрудняет какие-либо твердые выводы в любом случае [107].В лучшем случае, наиболее убедительный вывод, который мы можем сделать из этих исследований, заключается в том, что знакомство с западной культурой является лучшим предиктором способности правильно называть выражения эмоций на лице [107]. Что еще хуже, почти все эти исследования сосредоточены на лицевых сигналах для горстки эмоциональных состояний (счастье, печаль, гнев и т. Д.) И игнорируют многие другие лицевые сигналы, которые обычно используют люди (кивки, подмигивания, ухмылки, смех, надутые губы). , качает головой и т. д.). В единственном подробном натуралистическом кросс-культурном исследовании Эйбл-Эйбесфельдт [108] сообщил о многих культурных универсалиях, но также и о ряде заметных культурных различий (особенно в способах передачи сигналов утверждения и отрицания).К сожалению, работая в классической этологической традиции, Эйбл-Эйбесфельдт [108] не предоставляет данных, которые позволили бы нам провести количественный кросс-культурный анализ. Тем не менее, взятые вместе, эти результаты, кажется, действительно предполагают роль усвоенной гибкости в передаче сигналов и распознавании сигналов, которая оставляет открытой возможность для взаимосвязи между сложностью сигнала и социальной сложностью или размером сообщества.
Что еще хуже, почти все эти исследования сосредоточены на лицевых сигналах для горстки эмоциональных состояний (счастье, печаль, гнев и т. Д.) И игнорируют многие другие лицевые сигналы, которые обычно используют люди (кивки, подмигивания, ухмылки, смех, надутые губы). , качает головой и т. д.). В единственном подробном натуралистическом кросс-культурном исследовании Эйбл-Эйбесфельдт [108] сообщил о многих культурных универсалиях, но также и о ряде заметных культурных различий (особенно в способах передачи сигналов утверждения и отрицания).К сожалению, работая в классической этологической традиции, Эйбл-Эйбесфельдт [108] не предоставляет данных, которые позволили бы нам провести количественный кросс-культурный анализ. Тем не менее, взятые вместе, эти результаты, кажется, действительно предполагают роль усвоенной гибкости в передаче сигналов и распознавании сигналов, которая оставляет открытой возможность для взаимосвязи между сложностью сигнала и социальной сложностью или размером сообщества. Но это, в лучшем случае, предположение, и гипотеза ожидает детальной проверки.
Но это, в лучшем случае, предположение, и гипотеза ожидает детальной проверки.
Хотя неясно, является ли репертуар человеческих лицевых или невербальных сигналов шире, чем у других приматов, очевидно, что язык, по крайней мере, добавляет уровень сложности сигналов, который не имеет себе равных среди других видов. Это подозрительно похоже на фазовый переход, при котором был открыт новый канал связи, потому что более традиционные каналы (то есть неголосовые сигналы) достигли асимптотического предела и не могут быть растянуты дальше [29]. Если эти закономерности верны, то с точки зрения самого языка можно предсказать, что будет связь между сложностью языка и размером социального сообщества.В этом контексте подходящей социальной группой является языковое сообщество (то есть все, кто говорит на одном языке), которое может исчисляться миллионами, а не социальное сообщество в когнитивном смысле (кого вы знаете?). Однако, вопреки предсказаниям, фонологическая и морфологическая сложность человеческих языков на отрицательно связана с размером сообщества [109]. Кажется, что чем большему количеству людей необходимо говорить на языке, тем проще должны быть его морфологическая структура и грамматика.Скорее всего, это отражает ограничения передачи, но, возможно, и дрейф. Однако, имея гораздо более подробные данные о языковой структуре для очень большого количества языков (более 2000), это явно предоставляет широкие возможности для проверки гипотезы социальной сложности.
Кажется, что чем большему количеству людей необходимо говорить на языке, тем проще должны быть его морфологическая структура и грамматика.Скорее всего, это отражает ограничения передачи, но, возможно, и дрейф. Однако, имея гораздо более подробные данные о языковой структуре для очень большого количества языков (более 2000), это явно предоставляет широкие возможности для проверки гипотезы социальной сложности.
5. Ограничения текущих знаний и альтернативные пути к коммуникативной сложности
В то время как гипотеза социальной сложности является интуитивным объяснением того, почему развивается коммуникативная сложность и поддерживается рядом исследований как на ближайшем, так и на конечном уровне, существуют критические пробелы в нашем понимании того, как возникает коммуникативная сложность.Общность гипотезы социальной сложности основывается на диапазоне таксономических групп и модальностей сигналов, которые демонстрируют связь между социальной сложностью и коммуникативной сложностью. Большая часть существующих доказательств гипотезы социальной сложности ограничивается птицами и млекопитающими, а также голосовым общением как основным каналом исследования. Тем не менее, в естественном мире существует множество разнообразных организмов, которые в значительной степени полагаются на общение (рыбы, рептилии, земноводные, ракообразные, насекомые и другие беспозвоночные) и делают это различными способами (визуальными, обонятельными, осязательными / вибрационными и электрические).В той или иной степени коммуникативная сложность внутри конкретной сигнальной системы варьируется среди всех близкородственных видов, как и относительная социальная сложность этих таксонов. Мы утверждаем, что гипотеза социальной сложности имеет гораздо более широкое значение, чем предполагают текущие исследования, но степень этой актуальности неясна из-за нехватки исследований видов, выходящих за рамки типичных модельных систем, используемых в коммуникации и неголосовых форм коммуникации.
Большая часть существующих доказательств гипотезы социальной сложности ограничивается птицами и млекопитающими, а также голосовым общением как основным каналом исследования. Тем не менее, в естественном мире существует множество разнообразных организмов, которые в значительной степени полагаются на общение (рыбы, рептилии, земноводные, ракообразные, насекомые и другие беспозвоночные) и делают это различными способами (визуальными, обонятельными, осязательными / вибрационными и электрические).В той или иной степени коммуникативная сложность внутри конкретной сигнальной системы варьируется среди всех близкородственных видов, как и относительная социальная сложность этих таксонов. Мы утверждаем, что гипотеза социальной сложности имеет гораздо более широкое значение, чем предполагают текущие исследования, но степень этой актуальности неясна из-за нехватки исследований видов, выходящих за рамки типичных модельных систем, используемых в коммуникации и неголосовых форм коммуникации.
Кроме того, мы очень мало знаем об относительной роли социальных и несоциальных факторов, которые управляют или ограничивают эволюцию коммуникативной сложности в таксонах, которые были изучены на сегодняшний день. Существуют и другие способы развития коммуникативной сложности, связанные с увеличением социальной сложности или независимо от нее, и эти альтернативы необходимо оценить, если мы хотим получить полное представление о том, как развивается коммуникативная сложность. Хотя мы неизбежно рассматриваем социальную сложность как важный, действительно фундаментальный фактор сложности коммуникации, важно иметь возможность исключить альтернативные объяснения, которые могут привести к различиям в сложности коммуникации между таксонами.По сути, они обеспечивают нулевую гипотезу, по которой необходимо проверять предсказания гипотезы социальной сложности. В других случаях они могут оказывать давление отбора, которое действует против давления, порождаемого социальной сложностью, таким образом ограничивая эволюцию коммуникативной сложности в тех случаях, когда мы можем предсказать, что это произойдет. Мы кратко рассмотрим некоторые из наиболее важных из этих возможностей.
Существуют и другие способы развития коммуникативной сложности, связанные с увеличением социальной сложности или независимо от нее, и эти альтернативы необходимо оценить, если мы хотим получить полное представление о том, как развивается коммуникативная сложность. Хотя мы неизбежно рассматриваем социальную сложность как важный, действительно фундаментальный фактор сложности коммуникации, важно иметь возможность исключить альтернативные объяснения, которые могут привести к различиям в сложности коммуникации между таксонами.По сути, они обеспечивают нулевую гипотезу, по которой необходимо проверять предсказания гипотезы социальной сложности. В других случаях они могут оказывать давление отбора, которое действует против давления, порождаемого социальной сложностью, таким образом ограничивая эволюцию коммуникативной сложности в тех случаях, когда мы можем предсказать, что это произойдет. Мы кратко рассмотрим некоторые из наиболее важных из этих возможностей.
(a) Среда обитания
Физическая среда играет важную роль в формировании дизайна сигналов животных для большинства таксонов, независимо от функции или используемого способа коммуникации [110,111]. Это связано с тем, что свойства окружающей среды ограничивают тип сигналов, которые будут легко обнаруживаться и оцениваться приемниками, что приводит к выбору одних схем сигналов по сравнению с другими. Окружающая среда часто используется как объяснение происхождения разнообразия сигналов среди близкородственных видов, когда эти виды общаются в средах обитания, которые различаются условиями, влияющими на прием сигнала [112]. Условия, которые могут привести к ухудшению качества сигнала, включают фоновый шум, который маскирует вызовы [113] или дисплеи [114], или плохое освещение, которое снижает видимость орнаментов [115] или дисплеев [116].Эти переменные среды обычно считаются ограничениями для дизайна сигнала, а не факторами, способствующими детализации или разнообразию сигналов. Шум может привести к изменениям в частоте вызовов [117,118] или скорости движения дисплея [119], но его редко считают влиятельным, способствуя увеличению сложности вызова или отображения. Однако есть важные прецеденты, демонстрирующие, как окружающая среда может привести к развитию сложности сигнала.
Это связано с тем, что свойства окружающей среды ограничивают тип сигналов, которые будут легко обнаруживаться и оцениваться приемниками, что приводит к выбору одних схем сигналов по сравнению с другими. Окружающая среда часто используется как объяснение происхождения разнообразия сигналов среди близкородственных видов, когда эти виды общаются в средах обитания, которые различаются условиями, влияющими на прием сигнала [112]. Условия, которые могут привести к ухудшению качества сигнала, включают фоновый шум, который маскирует вызовы [113] или дисплеи [114], или плохое освещение, которое снижает видимость орнаментов [115] или дисплеев [116].Эти переменные среды обычно считаются ограничениями для дизайна сигнала, а не факторами, способствующими детализации или разнообразию сигналов. Шум может привести к изменениям в частоте вызовов [117,118] или скорости движения дисплея [119], но его редко считают влиятельным, способствуя увеличению сложности вызова или отображения. Однако есть важные прецеденты, демонстрирующие, как окружающая среда может привести к развитию сложности сигнала. Примеры разработки сигнала, зависящего от среды обитания, включают эволюцию некоторых мультимодальных сигналов, в которых животное использует сигналы, которые включают компоненты в более чем одной модальности (например,г. отображение ударов ступней — сигнал вибрации — и заметное украшение на ногах — визуальный сигнал [120]) или эволюция компонентов предупреждения в начале последовательности сигналов [116]. Вопрос не в том, происходит ли выработка сигнала в зависимости от окружающей среды (это происходит; см. Другие примеры в Hebets & Papaj [121] в дополнение к приведенным выше), а в том, как часто это происходит.
Примеры разработки сигнала, зависящего от среды обитания, включают эволюцию некоторых мультимодальных сигналов, в которых животное использует сигналы, которые включают компоненты в более чем одной модальности (например,г. отображение ударов ступней — сигнал вибрации — и заметное украшение на ногах — визуальный сигнал [120]) или эволюция компонентов предупреждения в начале последовательности сигналов [116]. Вопрос не в том, происходит ли выработка сигнала в зависимости от окружающей среды (это происходит; см. Другие примеры в Hebets & Papaj [121] в дополнение к приведенным выше), а в том, как часто это происходит.
(b) Хищничество
Другая переменная, которая, как чаще считается, действует как ограничение на разработку сигнала, а не как движущая сила для сложности, — это хищничество [122].Сложные сигналы часто являются заметными, а заметные сигналы могут привлечь внимание нежелательных приемников, а также намеченных целей. Классическим примером является лягушка тунгара, у которой самец может произвести брачный крик, который является либо основным по структуре — «скулить», либо более сложным и более привлекательным для самок — «скулить», за которым следует одно или несколько «скулей». патроны »[123,124]. Хищные летучие мыши, однако, могут использовать бросающийся в глаза компонент брачного крика, чтобы вернуться к вызову самцов, более эффективно, чем если бы призыв был просто оставлен на нытье [125,126].Когда вероятность хищничества высока, самцы идут на компромисс в отношении сложности сигнала и производят только самый простой сигнал, даже несмотря на то, что крики, содержащие компоненты захвата, дают самцам преимущество в привлечении самок [125].
патроны »[123,124]. Хищные летучие мыши, однако, могут использовать бросающийся в глаза компонент брачного крика, чтобы вернуться к вызову самцов, более эффективно, чем если бы призыв был просто оставлен на нытье [125,126].Когда вероятность хищничества высока, самцы идут на компромисс в отношении сложности сигнала и производят только самый простой сигнал, даже несмотря на то, что крики, содержащие компоненты захвата, дают самцам преимущество в привлечении самок [125].
Тем не менее, хищничество может способствовать развитию коммуникативной сложности множеством различных способов. Например, давление хищников у обезьян Кэмпбелла может приводить к сложности голосовой передачи сигналов за счет вариаций в том, как сигналы объединяются в последовательности [127]. Коммуникативная сложность также может возникать в результате эволюции совершенно новых сигналов, которые увеличивают размер репертуара сигналов без изменения частоты или характера социальных взаимодействий между сородичами.Ярким примером является эволюция сигналов, сдерживающих преследование.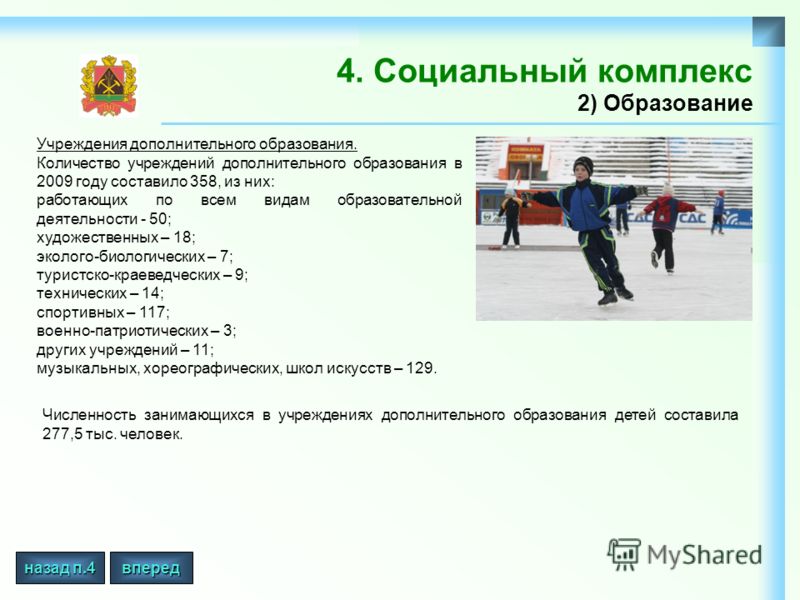 Считается, что «остановка» газелей Томсона сигнализирует хищнику, что он потерял элемент неожиданности, и честно заявляет о физическом состоянии, и, следовательно, о низкой вероятности поимки [128]. Недавнее открытие ранее неизвестной модальности сигнала у сусликов является еще одним примером. Самки калифорнийских сусликов используют заметный флаг на хвосте, чтобы змеи не могли проникнуть в норы, в которых укрываются щенки.При наличии ямы, чувствительной к инфракрасному излучению, гадюки, такие как гремучие змеи, самки вырабатывают сигнал движения хвоста (визуальный сигнал) с помощью лучистого тепла, увеличивая приток крови к своим хвостам (инфракрасный сигнал, [129]). Это увлекательный случай, когда сигнал превратился из одной модальности в две. Другие примеры хищничества, ведущие к разработке дизайна сигналов или размера репертуара, можно найти в электрических сигналах слабоэлектрических рыб [130] и тревожных криках обезьян Дианы [131]; в обоих случаях не было изменений в социальной сложности, хотя в случае электрических рыбок возросшая сложность сигналов стала важной при выборе партнера, когда он эволюционировал [130].
Считается, что «остановка» газелей Томсона сигнализирует хищнику, что он потерял элемент неожиданности, и честно заявляет о физическом состоянии, и, следовательно, о низкой вероятности поимки [128]. Недавнее открытие ранее неизвестной модальности сигнала у сусликов является еще одним примером. Самки калифорнийских сусликов используют заметный флаг на хвосте, чтобы змеи не могли проникнуть в норы, в которых укрываются щенки.При наличии ямы, чувствительной к инфракрасному излучению, гадюки, такие как гремучие змеи, самки вырабатывают сигнал движения хвоста (визуальный сигнал) с помощью лучистого тепла, увеличивая приток крови к своим хвостам (инфракрасный сигнал, [129]). Это увлекательный случай, когда сигнал превратился из одной модальности в две. Другие примеры хищничества, ведущие к разработке дизайна сигналов или размера репертуара, можно найти в электрических сигналах слабоэлектрических рыб [130] и тревожных криках обезьян Дианы [131]; в обоих случаях не было изменений в социальной сложности, хотя в случае электрических рыбок возросшая сложность сигналов стала важной при выборе партнера, когда он эволюционировал [130].
(c) Распознавание видов
Когда животные часто сталкиваются с сородичами в окружающей среде, у животных есть явные селективные преимущества, позволяющие отличать сородичей от гетероспецифических как в контексте спаривания, так и в территориальном контексте (обзор в Ord et al . [132]). Это, в свою очередь, должно привести к значительному селективному давлению на социальные сигналы, чтобы передать надежные сигналы о видовой идентичности. Многие исследования подтвердили, что видоспецифичные компоненты существуют в сигналах спаривания и территориальных сигналах [132].Кажется разумным ожидать, что частота встреч с симпатрическими видами, особенно со сходным внешним видом и экологией (например, с гетероспецифическими, принадлежащими к одному или близкородственным родам), будет способствовать усложнению конструкции сигналов или репертуара. Смещение характера — феномен экологической и фенотипической дивергенции, когда ранее аллопатрические виды вступают в контакт [133], — происходит в сигнальных системах. Однако, когда встречи обычно происходят между несколькими сородичами (например,г. двух видов), смещение характера с большей вероятностью вызовет расхождение в характеристиках сигнала, чем эволюцию коммуникативной сложности per se (например, сдвиг в пении или частоте звонков, который минимизирует перекрытие между песнями или криками симпатрического гетероспецифического человека [134,135]. ). В большинстве случаев путь наименьшего сопротивления состоит в том, чтобы изменить существующую характеристику сигнала (например, частоту песни), а не усложнять систему связи (например, совершенно новую ноту или слог в песне).
Однако, когда встречи обычно происходят между несколькими сородичами (например,г. двух видов), смещение характера с большей вероятностью вызовет расхождение в характеристиках сигнала, чем эволюцию коммуникативной сложности per se (например, сдвиг в пении или частоте звонков, который минимизирует перекрытие между песнями или криками симпатрического гетероспецифического человека [134,135]. ). В большинстве случаев путь наименьшего сопротивления состоит в том, чтобы изменить существующую характеристику сигнала (например, частоту песни), а не усложнять систему связи (например, совершенно новую ноту или слог в песне).
Ситуация меняется, когда виды начинают встречаться с множеством различных сородичей. В многолюдном сообществе общающихся животных единственным жизнеспособным решением может быть увеличение общей сложности сигнала, потому что диапазон возможных модификаций существующих характеристик сигнала, которые минимизируют перекрытие со всеми другими гетероспецифическими сигналами, сильно ограничен. Это должно привести к развитию коммуникативной сложности с увеличением числа встречающихся симпатрических видов, и в природе есть доказательства этого.Карибские ящерицы Anolis , которые пересекаются со многими симпатрическими сородичами, демонстрируют территориальные демонстрации хэдбоба, которые более сложны, чем виды, которые редко встречаются с другими ящерицами Anolis [40]. У уток, гусей и лебедей развитие ярко окрашенного оперения более вероятно у видов, обитающих в симпатрии, чем у видов, обитающих в аллопатрии [136]. Во многом так же, как гипотеза социальной сложности предсказывает, что частота и характер взаимодействий с сородичами будут определять сложность сигнала, частота и диапазон гетероспецифических особей, с которыми сталкивается вид, будут способствовать усложнению распознавания видов.
Это должно привести к развитию коммуникативной сложности с увеличением числа встречающихся симпатрических видов, и в природе есть доказательства этого.Карибские ящерицы Anolis , которые пересекаются со многими симпатрическими сородичами, демонстрируют территориальные демонстрации хэдбоба, которые более сложны, чем виды, которые редко встречаются с другими ящерицами Anolis [40]. У уток, гусей и лебедей развитие ярко окрашенного оперения более вероятно у видов, обитающих в симпатрии, чем у видов, обитающих в аллопатрии [136]. Во многом так же, как гипотеза социальной сложности предсказывает, что частота и характер взаимодействий с сородичами будут определять сложность сигнала, частота и диапазон гетероспецифических особей, с которыми сталкивается вид, будут способствовать усложнению распознавания видов.
(d) «Нейтральные» эволюционные процессы
Возможно, наиболее радикальное предположение состоит в том, что коммуникативная сложность может возникнуть в отсутствие прямого отбора и исключительно из-за стохастической природы эволюции. То есть сложность в некоторых сигналах постепенно накапливается в течение эволюционного времени в результате таких процессов, как генетический дрейф. Это приведет к появлению видов, которые различаются по дизайну сигналов из-за различий в количестве, порядке или типе мутаций, возникших в каждой линии.Эволюционные биологи хорошо осведомлены о том, что «нейтральное» фенотипическое изменение (изменение, не выполняющее особой адаптивной функции) является неотъемлемым результатом эволюции. Действительно, первоначальной мотивацией для разработки филогенетических сравнительных методов был статистический учет того факта, что виды накапливают фенотипические изменения с течением времени и имеют тенденцию разделять или отличаться по своим фенотипам в зависимости от их филогенетических отношений [137]. Исследователи в области коммуникации могут быть менее знакомы с представлением о том, что случайные процессы занимают важное место в эволюции и что поведение животных не всегда может быть продуктом текущего или даже прошлого отбора.
То есть сложность в некоторых сигналах постепенно накапливается в течение эволюционного времени в результате таких процессов, как генетический дрейф. Это приведет к появлению видов, которые различаются по дизайну сигналов из-за различий в количестве, порядке или типе мутаций, возникших в каждой линии.Эволюционные биологи хорошо осведомлены о том, что «нейтральное» фенотипическое изменение (изменение, не выполняющее особой адаптивной функции) является неотъемлемым результатом эволюции. Действительно, первоначальной мотивацией для разработки филогенетических сравнительных методов был статистический учет того факта, что виды накапливают фенотипические изменения с течением времени и имеют тенденцию разделять или отличаться по своим фенотипам в зависимости от их филогенетических отношений [137]. Исследователи в области коммуникации могут быть менее знакомы с представлением о том, что случайные процессы занимают важное место в эволюции и что поведение животных не всегда может быть продуктом текущего или даже прошлого отбора. Поэтому неудивительно, что существует немного исследований, изучающих вопрос о том, лежат ли такие факторы, как генетический дрейф, в основе вариаций сложности сигналов среди близкородственных видов. Тем не менее, мы не должны ожидать, что эволюция коммуникации будет отличаться от других фенотипических признаков.
Поэтому неудивительно, что существует немного исследований, изучающих вопрос о том, лежат ли такие факторы, как генетический дрейф, в основе вариаций сложности сигналов среди близкородственных видов. Тем не менее, мы не должны ожидать, что эволюция коммуникации будет отличаться от других фенотипических признаков.
Одним из характерных признаков нейтральной эволюции является наличие «филогенетического сигнала» в сравнительных наборах данных. Филогенетический сигнал отражает тенденцию близкородственных видов разделять фенотипические характеристики.В контексте сложности сигнала мы должны ожидать, что нейтральная эволюция увеличит коммуникативную сложность в течение эволюционного времени (например, большая сложность сигнала в линиях, у которых было больше времени для развития) и сходства в уровне коммуникативной сложности (высокий или низкий) среди близких родственников. по сравнению с более отдаленными видами. Имеются данные о том, что сложность сигналов имеет тенденцию увеличиваться с возрастом линии и варьировать между таксонами в зависимости от филогенетических взаимоотношений в химических сигналах муравьев [138] и Drosophila [139] в голосовых сигналах птиц [140–142].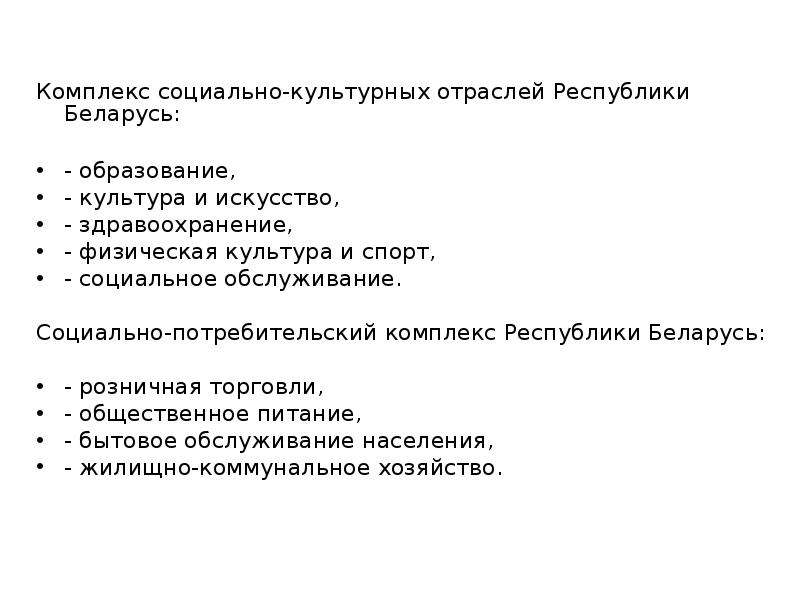 и лягушки [143], а также зрительные сигналы рыб-дартер [144] и ящериц Anolis [40].Мы должны добавить, что интерпретацию филогенетического сигнала следует проводить с осторожностью, поскольку он может отражать ряд различных биологических факторов (например, консерватизм ниши или стабилизирующий отбор в более общем плане) или статистических артефактов (например, систематические ошибки при выборке таксонов, ошибки измерения фенотипических признаков [145]). ).
и лягушки [143], а также зрительные сигналы рыб-дартер [144] и ящериц Anolis [40].Мы должны добавить, что интерпретацию филогенетического сигнала следует проводить с осторожностью, поскольку он может отражать ряд различных биологических факторов (например, консерватизм ниши или стабилизирующий отбор в более общем плане) или статистических артефактов (например, систематические ошибки при выборке таксонов, ошибки измерения фенотипических признаков [145]). ).
Интригующий пример того, как нейтральная эволюция может создавать коммуникативную сложность, представлен Wischmann et al. [146], который изучал траекторию эволюции сигналов в реплицированных популяциях совместно добывающих пищу роботов.Роботы могли сигнализировать друг другу, мигая синим и зеленым светом. Замечательным результатом этого исследования стала эволюция двух различных форм поведения сигнала: простого сигнала, который основывался на мигании света только одного цвета, и другого, в котором использовалась более сложная комбинация обоих цветов. Во всем остальном популяции роботов были идентичны. Это исследование показывает, что, по крайней мере в принципе, коммуникативная сложность может развиваться как произвольный результат мутации и рекомбинации независимо от каких-либо социальных или экологических переменных.Карибские ящерицы Anolis являются потенциальным примером чего-то подобного в природе. Две отдельные клады ящериц встречаются на островах Ямайка и Пуэрто-Рико. Ящерицы на обоих островах используют комбинацию демонстрации головного убора и удлинения большого подвеса для рекламы владения территорией, ящерицы на обоих островах защищают территории в визуально сложных средах обитания (среды, в которых много отвлекающих движений от ветреной растительности или плохая видимость со стороны низкая освещенность [147]), и ящерицы на обоих островах имеют одинаковый уровень конкуренции за территории (например,г. диапазон плотностей видов сопоставим на обоих островах [148]). Однако сигнальная стратегия, используемая ящерицами на Пуэрто-Рико, возможно, более сложна, чем стратегия, используемая ящерицами на Ямайке.
Во всем остальном популяции роботов были идентичны. Это исследование показывает, что, по крайней мере в принципе, коммуникативная сложность может развиваться как произвольный результат мутации и рекомбинации независимо от каких-либо социальных или экологических переменных.Карибские ящерицы Anolis являются потенциальным примером чего-то подобного в природе. Две отдельные клады ящериц встречаются на островах Ямайка и Пуэрто-Рико. Ящерицы на обоих островах используют комбинацию демонстрации головного убора и удлинения большого подвеса для рекламы владения территорией, ящерицы на обоих островах защищают территории в визуально сложных средах обитания (среды, в которых много отвлекающих движений от ветреной растительности или плохая видимость со стороны низкая освещенность [147]), и ящерицы на обоих островах имеют одинаковый уровень конкуренции за территории (например,г. диапазон плотностей видов сопоставим на обоих островах [148]). Однако сигнальная стратегия, используемая ящерицами на Пуэрто-Рико, возможно, более сложна, чем стратегия, используемая ящерицами на Ямайке. Пуэрто-риканские ящерицы улучшают общение, настраивая скорость, продолжительность и синхронизацию своих последовательностей отображения в зависимости от преобладающего уровня визуального шума или окружающего света во время отображения [119, 147, 148]. Ямайские ящерицы, с другой стороны, никоим образом не изменяют производство дисплеев, а, похоже, вместо этого полагаются на использование очень заметного дисплея подвеса [147,148].Две альтернативные сигнальные стратегии, которые кажутся одинаково эффективными при рекламе владения территорией в сложных сигнальных средах [116], которые различаются по сложности, развивались независимо от социальных и экологических факторов. Хотя пластичность сигнала может не соответствовать традиционному определению сложности сигнала (вставка 1), мы используем этот пример, чтобы проиллюстрировать, что различия в сложности поведения могут возникать среди таксонов как очевидное следствие капризов эволюции.
Пуэрто-риканские ящерицы улучшают общение, настраивая скорость, продолжительность и синхронизацию своих последовательностей отображения в зависимости от преобладающего уровня визуального шума или окружающего света во время отображения [119, 147, 148]. Ямайские ящерицы, с другой стороны, никоим образом не изменяют производство дисплеев, а, похоже, вместо этого полагаются на использование очень заметного дисплея подвеса [147,148].Две альтернативные сигнальные стратегии, которые кажутся одинаково эффективными при рекламе владения территорией в сложных сигнальных средах [116], которые различаются по сложности, развивались независимо от социальных и экологических факторов. Хотя пластичность сигнала может не соответствовать традиционному определению сложности сигнала (вставка 1), мы используем этот пример, чтобы проиллюстрировать, что различия в сложности поведения могут возникать среди таксонов как очевидное следствие капризов эволюции.
6. Выводы: стремление к причинному выводу
Мы надеемся, что доказали (i) что социальная сложность может играть важную роль в формировании коммуникативной сложности у видов животных и (ii) что дальнейшие тесты этой возможной роли будут представляют большой интерес и очень необходимы для углубления нашего понимания коммуникативной эволюции. Мы все еще в значительной степени находимся в индуктивной фазе исследования вопроса о том, как сложность социальных групп может влиять на сложность сигнальных систем. Существуют существенные сравнительные, корреляционные и даже экспериментальные данные, подтверждающие аргумент, который мы рассмотрели здесь. С другой стороны, необходимо более основательно перейти к дедуктивной фазе изучения вопроса. Это было одним из основных мотивов для нас при написании этой статьи и для тематического выпуска в целом.Короче говоря, необходимы наборы данных, которые обеспечат надежную проверку гипотезы социальной сложности против альтернатив, таких как давление хищничества или распознавания видов.
Мы все еще в значительной степени находимся в индуктивной фазе исследования вопроса о том, как сложность социальных групп может влиять на сложность сигнальных систем. Существуют существенные сравнительные, корреляционные и даже экспериментальные данные, подтверждающие аргумент, который мы рассмотрели здесь. С другой стороны, необходимо более основательно перейти к дедуктивной фазе изучения вопроса. Это было одним из основных мотивов для нас при написании этой статьи и для тематического выпуска в целом.Короче говоря, необходимы наборы данных, которые обеспечат надежную проверку гипотезы социальной сложности против альтернатив, таких как давление хищничества или распознавания видов.
Социальная группировка дает членам группы существенные преимущества [149]. Таким образом, социально сложные группы могут обеспечивать «изоляцию» от физической среды, которая не ощущается отдельными людьми в очень простых социальных группах или отдельными людьми. Мы утверждали, что социально сложные группы требуют большей коммуникативной сложности членов группы по сравнению с менее сложными группами, исходя из аргументов о необходимости усиления социального познания (гипотеза социального интеллекта, поднятая выше [16–19]).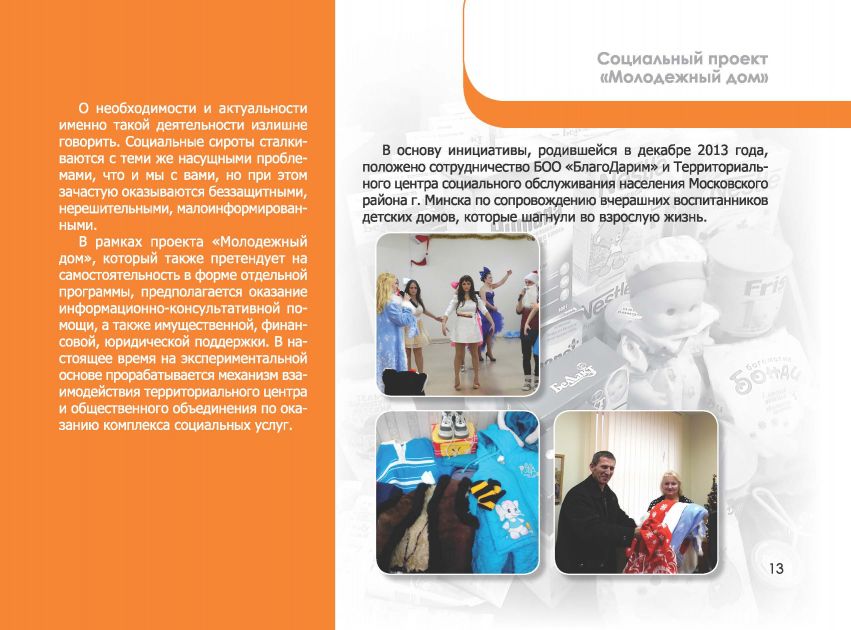 Следовательно, социальная сложность может возникать в результате увеличения сложности на индивидуальном уровне, обусловленного потребностями более крупных групп или групп с большим разнообразием ролей или отношений. С другой стороны, социальная сложность также может возникать из-за отсутствия изменений или даже уменьшения или сложности индивидуального уровня в сочетании с большим расхождением индивидуальных ролей в группе. Это теоретизировалось и задокументировано, например, у социальных насекомых [150]. Например, дозорному человеку в группе может не потребоваться подавать сигналы обнаружения пищи, если он никогда не выполняет эту роль в своей группе, а может просто полагаться на других членов группы для получения пищи.Таким образом, мы считаем, что наше понимание коммуникативной сложности будет расти по мере углубления понимания физических нагрузок на окружающую среду, с которыми сталкиваются люди, в дополнение к давлению социальной среды, которое мы здесь подчеркнули.
Следовательно, социальная сложность может возникать в результате увеличения сложности на индивидуальном уровне, обусловленного потребностями более крупных групп или групп с большим разнообразием ролей или отношений. С другой стороны, социальная сложность также может возникать из-за отсутствия изменений или даже уменьшения или сложности индивидуального уровня в сочетании с большим расхождением индивидуальных ролей в группе. Это теоретизировалось и задокументировано, например, у социальных насекомых [150]. Например, дозорному человеку в группе может не потребоваться подавать сигналы обнаружения пищи, если он никогда не выполняет эту роль в своей группе, а может просто полагаться на других членов группы для получения пищи.Таким образом, мы считаем, что наше понимание коммуникативной сложности будет расти по мере углубления понимания физических нагрузок на окружающую среду, с которыми сталкиваются люди, в дополнение к давлению социальной среды, которое мы здесь подчеркнули.
При рассмотрении альтернативных причин коммуникативной сложности становится очевидным, что направление причинности становится особенно важным при проверке гипотезы социальной сложности. Сложные коммуникативные системы могут развиваться из-за давления, связанного с социальной сложностью, но если сложные коммуникативные системы развиваются по другим причинам, это, в свою очередь, может способствовать эволюции большей социальной сложности среди животных (например,г. формирование более крупных социальных групп [68]). Хотя исследования могут продемонстрировать связь между социальной сложностью и коммуникативной сложностью, это само по себе не подтверждает направление причинности, которое явно выражено в гипотезе социальной сложности: социальная сложность определяет коммуникативную сложность, а не наоборот. Экспериментальные манипуляции [42] помогут, но их все же следует проводить с тщательным учетом других факторов, которые могут повлиять на дизайн сигналов. Филогенетический сравнительный анализ, в котором социальные, экологические и эволюционные факторы сравниваются друг с другом, является еще одним ценным подходом [151].Хотя могут существовать проблемы с филогенетическими методами, реконструирующими состояния предков [152, 153], при тщательном выполнении эти методы могут обеспечить способ определения вероятности того, что социальная сложность предшествует изменениям в сложности сигнала [154].
Сложные коммуникативные системы могут развиваться из-за давления, связанного с социальной сложностью, но если сложные коммуникативные системы развиваются по другим причинам, это, в свою очередь, может способствовать эволюции большей социальной сложности среди животных (например,г. формирование более крупных социальных групп [68]). Хотя исследования могут продемонстрировать связь между социальной сложностью и коммуникативной сложностью, это само по себе не подтверждает направление причинности, которое явно выражено в гипотезе социальной сложности: социальная сложность определяет коммуникативную сложность, а не наоборот. Экспериментальные манипуляции [42] помогут, но их все же следует проводить с тщательным учетом других факторов, которые могут повлиять на дизайн сигналов. Филогенетический сравнительный анализ, в котором социальные, экологические и эволюционные факторы сравниваются друг с другом, является еще одним ценным подходом [151].Хотя могут существовать проблемы с филогенетическими методами, реконструирующими состояния предков [152, 153], при тщательном выполнении эти методы могут обеспечить способ определения вероятности того, что социальная сложность предшествует изменениям в сложности сигнала [154]. Анализ пути может быть особенно полезным, поскольку он позволяет нам проверять между альтернативными моделями, которые разделяют эволюционные причины (т. Е. Отбор), и ограничениями, которые необходимо устранить, чтобы позволить эволюционное изменение и его последствия, такие как окна возможностей, которые открывает эволюционное изменение. вверх (пример такого анализа в контексте эволюции мозга приматов см. [98]).Возможно, самая большая проблема, с которой столкнутся будущие исследования, желающие проверить гипотезу социальной сложности, — это найти способ распутать альтернативные давления отбора, которые неизбежно действуют на сложные сигналы животных, и то, как эти факторы связаны с изменениями в дизайне сигналов.
Анализ пути может быть особенно полезным, поскольку он позволяет нам проверять между альтернативными моделями, которые разделяют эволюционные причины (т. Е. Отбор), и ограничениями, которые необходимо устранить, чтобы позволить эволюционное изменение и его последствия, такие как окна возможностей, которые открывает эволюционное изменение. вверх (пример такого анализа в контексте эволюции мозга приматов см. [98]).Возможно, самая большая проблема, с которой столкнутся будущие исследования, желающие проверить гипотезу социальной сложности, — это найти способ распутать альтернативные давления отбора, которые неизбежно действуют на сложные сигналы животных, и то, как эти факторы связаны с изменениями в дизайне сигналов.
Благодарности
Сначала мы хотим поблагодарить Эмилию Мартинс за то, что много лет назад на собрании Общества по поведению животных Тодду Фрибергу предложили, что сообществу животных, общающемуся с животными, необходим симпозиум или семинар по вопросу коммуникативной сложности. Мы хотим поблагодарить организаторов совместной встречи Международной этологической конференции 2011 года и Общества по изучению поведения животных за выбор симпозиума «Влияет ли социальная сложность на коммуникативную сложность?». Этот симпозиум стал первоначальным импульсом для предложения тематического выпуска, за что мы благодарим редакторов Philosophical Transactions of the Royal Society, B. Мы благодарим двух анонимных рецензентов за полезные комментарии к более раннему черновику этой рукописи.
Мы хотим поблагодарить организаторов совместной встречи Международной этологической конференции 2011 года и Общества по изучению поведения животных за выбор симпозиума «Влияет ли социальная сложность на коммуникативную сложность?». Этот симпозиум стал первоначальным импульсом для предложения тематического выпуска, за что мы благодарим редакторов Philosophical Transactions of the Royal Society, B. Мы благодарим двух анонимных рецензентов за полезные комментарии к более раннему черновику этой рукописи.
Список литературы
1.Ламарк Дж. Б. 1809/1963. Philosophie Zoologique (Зоологическая философия). Нью-Йорк, Нью-Йорк: Хафнер Паблишинг; (Английский перевод Хью Эллиота) [Google Scholar] 2. Брэдбери Дж. У., Веренкамп С. Л. 1998 г. Принципы общения животных. Сандерленд, Массачусетс: Синауэр [Google Scholar] 3. Хайльман Дж. П. 1977 г. Оптические сигналы: общение животных и свет. Блумингтон, Индиана: Издательство Индианского университета [Google Scholar] 4. Уилсон Э. О. 1975 г. Социобиология: новый синтез. Кембридж, Массачусетс: Издательство Гарвардского университета [Google Scholar] 5.Дарвин К.
1872 г.
Выражение эмоций у человека и животных. Лондон, Великобритания: Джон Мюррей (перепечатано:
Издательство Чикагского университета, 1965 год; ). [Google Scholar] 6. Мортон Э. С.
1977 г.
О возникновении и значении мотивационно-структурных правил в некоторых звуках птиц и млекопитающих. Являюсь. Nat.
111, 855–86910.1086 / 283219 (DOI: 10.1086 / 283219) [CrossRef] [Google Scholar] 7. Оуингс Д. Х., Мортон Э. С.
1998 г.
Голосовое общение животных: новый подход. Кембридж, Великобритания: Издательство Кембриджского университета [Google Scholar] 10.Сейфарт Р. М., Чейни Д. Л., Бергман Т., Фишер Дж., Цубербюлер К., Хаммершмидт К.
2010 г.
Центральное значение информации в исследованиях общения животных. Anim. Behav.
80, 3–810.1016 / j.anbehav.2010.04.012 (doi: 10.1016 / j.anbehav.2010.04.012) [CrossRef] [Google Scholar] 11. Бернард Л. Л.
1924 г.
Инстинкт: исследование по социальной психологии. Нью-Йорк: Генри Холт и Ко [Google Scholar] 12.
Кембридж, Массачусетс: Издательство Гарвардского университета [Google Scholar] 5.Дарвин К.
1872 г.
Выражение эмоций у человека и животных. Лондон, Великобритания: Джон Мюррей (перепечатано:
Издательство Чикагского университета, 1965 год; ). [Google Scholar] 6. Мортон Э. С.
1977 г.
О возникновении и значении мотивационно-структурных правил в некоторых звуках птиц и млекопитающих. Являюсь. Nat.
111, 855–86910.1086 / 283219 (DOI: 10.1086 / 283219) [CrossRef] [Google Scholar] 7. Оуингс Д. Х., Мортон Э. С.
1998 г.
Голосовое общение животных: новый подход. Кембридж, Великобритания: Издательство Кембриджского университета [Google Scholar] 10.Сейфарт Р. М., Чейни Д. Л., Бергман Т., Фишер Дж., Цубербюлер К., Хаммершмидт К.
2010 г.
Центральное значение информации в исследованиях общения животных. Anim. Behav.
80, 3–810.1016 / j.anbehav.2010.04.012 (doi: 10.1016 / j.anbehav.2010.04.012) [CrossRef] [Google Scholar] 11. Бернард Л. Л.
1924 г.
Инстинкт: исследование по социальной психологии. Нью-Йорк: Генри Холт и Ко [Google Scholar] 12. Толмен Э. С.
1932 г.
Целенаправленное поведение у животных и людей. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: Мередит Паблишинг [Google Scholar] 13.Шельдеруп-Эббе Т.
1935 г.
Социальное поведение птиц. В Справочнике по социальной психологии (изд. Мерчисон К.), стр. 947–972.
Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: Рассел и Рассел [Google Scholar] 14. Карпентер К. Р.
1934 г.
Полевое исследование поведения и социальных отношений воющих обезьян. Комп. Psychol. Monogr.
10, 1–168 [Google Scholar] 15. Торп В. Х.
1956 г.
Обучение и инстинкт у животных. Лондон, Великобритания: Метуэн [Google Scholar] 17. Хамфри Н. К.
1976 г.
Социальная функция интеллекта. В «Точки роста в этологии» (ред. Бейтсон П.П. Г., Хинде Р. А.), стр. 303–317.
Кембридж, Великобритания: Издательство Кембриджского университета [Google Scholar] 18. Бирн Р. В., Уайтен А. (ред.) 1988.
Макиавеллистский интеллект: социальная экспертиза и эволюция интеллекта у обезьян, обезьян и людей. Оксфорд, Великобритания: Oxford University Press [Google Scholar] 19. Уайтен А.
Толмен Э. С.
1932 г.
Целенаправленное поведение у животных и людей. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: Мередит Паблишинг [Google Scholar] 13.Шельдеруп-Эббе Т.
1935 г.
Социальное поведение птиц. В Справочнике по социальной психологии (изд. Мерчисон К.), стр. 947–972.
Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: Рассел и Рассел [Google Scholar] 14. Карпентер К. Р.
1934 г.
Полевое исследование поведения и социальных отношений воющих обезьян. Комп. Psychol. Monogr.
10, 1–168 [Google Scholar] 15. Торп В. Х.
1956 г.
Обучение и инстинкт у животных. Лондон, Великобритания: Метуэн [Google Scholar] 17. Хамфри Н. К.
1976 г.
Социальная функция интеллекта. В «Точки роста в этологии» (ред. Бейтсон П.П. Г., Хинде Р. А.), стр. 303–317.
Кембридж, Великобритания: Издательство Кембриджского университета [Google Scholar] 18. Бирн Р. В., Уайтен А. (ред.) 1988.
Макиавеллистский интеллект: социальная экспертиза и эволюция интеллекта у обезьян, обезьян и людей. Оксфорд, Великобритания: Oxford University Press [Google Scholar] 19. Уайтен А. , Бирн Р. У. (ред.) 1997.
Макиавеллианский интеллект II: расширения и оценки. Кембридж, Великобритания: Издательство Кембриджского университета [Google Scholar] 20. Братья Л.
1990 г.
Социальный мозг: проект по интеграции поведения приматов и нейрофизиологии в новую область.Concepts Neurosci.
1, 27–51 [Google Scholar] 21. Бартон Р. А., Данбар Р. И. М.
1998 г.
Эволюция социального мозга. В Макиавеллистском интеллекте II: расширения и оценки (ред. Уайтен А., Бирн Р. В.), стр. 240–263
Кембридж, Великобритания: Издательство Кембриджского университета [Google Scholar] 23. Хаузер М. Д.
1996 г.
Эволюция общения. Кембридж, Массачусетс: MIT Press [Google Scholar] 24. Гелл-Манн М.
1994 г.
Кварк и ягуар: приключения в простом и сложном. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: Генри Холт и компания [Google Scholar] 25.Джонсон Н.
2009 г.
Просто сложность: четкое руководство по теории сложности. Оксфорд, Великобритания: Oneworld [Google Scholar] 26. МакШи Д. В., Брэндон Р. Н.
2010 г.
Первый закон биологии: тенденция к увеличению разнообразия и сложности в эволюционных системах.
, Бирн Р. У. (ред.) 1997.
Макиавеллианский интеллект II: расширения и оценки. Кембридж, Великобритания: Издательство Кембриджского университета [Google Scholar] 20. Братья Л.
1990 г.
Социальный мозг: проект по интеграции поведения приматов и нейрофизиологии в новую область.Concepts Neurosci.
1, 27–51 [Google Scholar] 21. Бартон Р. А., Данбар Р. И. М.
1998 г.
Эволюция социального мозга. В Макиавеллистском интеллекте II: расширения и оценки (ред. Уайтен А., Бирн Р. В.), стр. 240–263
Кембридж, Великобритания: Издательство Кембриджского университета [Google Scholar] 23. Хаузер М. Д.
1996 г.
Эволюция общения. Кембридж, Массачусетс: MIT Press [Google Scholar] 24. Гелл-Манн М.
1994 г.
Кварк и ягуар: приключения в простом и сложном. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: Генри Холт и компания [Google Scholar] 25.Джонсон Н.
2009 г.
Просто сложность: четкое руководство по теории сложности. Оксфорд, Великобритания: Oneworld [Google Scholar] 26. МакШи Д. В., Брэндон Р. Н.
2010 г.
Первый закон биологии: тенденция к увеличению разнообразия и сложности в эволюционных системах. Чикаго, Иллинойс: Издательство Чикагского университета [Google Scholar] 27. Миллер Дж. Х., Пейдж С. Э.
2007 г.
Сложные адаптивные системы: введение в вычислительные модели социальной жизни. Принстон, Нью-Джерси: Princeton University Press [Google Scholar] 28. Пейдж С.Э.
2011 г.Разнообразие и сложность. Принстон, Нью-Джерси: Издательство Принстонского университета [Google Scholar] 31. Фон Берталанфи Л.
1968 г.
Общая теория систем: основы, развитие, приложения. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: Джордж Бразиллер [Google Scholar] 32. Оллер Д. К., Грибель У. (ред.) 2008.
Эволюция коммуникативной гибкости: сложность, креативность и адаптивность в общении людей и животных. Кембридж, Массачусетс: MIT Press [Google Scholar] 33. Смит В. Дж.
1977 г.
Поведение при общении: этологический подход.Кембридж, Массачусетс: Издательство Гарвардского университета [Google Scholar] 34. Марлер П.
1976 г.
Социальная организация, общение и ступенчатые сигналы: шимпанзе и горилла. В «Точки роста в этологии» (ред. Бейтсон П.
Чикаго, Иллинойс: Издательство Чикагского университета [Google Scholar] 27. Миллер Дж. Х., Пейдж С. Э.
2007 г.
Сложные адаптивные системы: введение в вычислительные модели социальной жизни. Принстон, Нью-Джерси: Princeton University Press [Google Scholar] 28. Пейдж С.Э.
2011 г.Разнообразие и сложность. Принстон, Нью-Джерси: Издательство Принстонского университета [Google Scholar] 31. Фон Берталанфи Л.
1968 г.
Общая теория систем: основы, развитие, приложения. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: Джордж Бразиллер [Google Scholar] 32. Оллер Д. К., Грибель У. (ред.) 2008.
Эволюция коммуникативной гибкости: сложность, креативность и адаптивность в общении людей и животных. Кембридж, Массачусетс: MIT Press [Google Scholar] 33. Смит В. Дж.
1977 г.
Поведение при общении: этологический подход.Кембридж, Массачусетс: Издательство Гарвардского университета [Google Scholar] 34. Марлер П.
1976 г.
Социальная организация, общение и ступенчатые сигналы: шимпанзе и горилла. В «Точки роста в этологии» (ред. Бейтсон П. П., Хайнде Р. А.), стр. 239–280.
Кембридж, Великобритания: Издательство Кембриджского университета [Google Scholar] 35. Веренкамп С. Л.
2000 г.
Фора, указатель и условные сигнальные элементы пения птиц. В «Сигнализация и дизайн сигналов в общении с животными» (ред. Эспмарк Ю., Амундсен Т., Розенквист Г.), стр. 277–300
Тронхейм, Норвегия: Tapir Academic Press [Google Scholar] 36.Марлер П.
2004 г.
Крики птиц: рог изобилия для общения. В музыке природы: наука о пении птиц (ред. Марлер П., Слаббекорн Х.), стр. 132–177.
Амстердам, Нидерланды: Elsevier Academic Press [Google Scholar] 37. Хаммершмидт К., Фишер Дж.
2008 г.
Ограничения в производстве голоса приматов. В «Эволюция коммуникативной гибкости: сложность, креативность и адаптивность в общении людей и животных» (ред. Оллер Д. К., Грибель У.), стр. 93–119.
Кембридж, Массачусетс: MIT Press [Google Scholar] 38.Шеннон К. Э., Уивер В.
1949 г.
Математическая теория коммуникации. Урбана, Иллинойс: University of Illinois Press [Google Scholar] 39.
П., Хайнде Р. А.), стр. 239–280.
Кембридж, Великобритания: Издательство Кембриджского университета [Google Scholar] 35. Веренкамп С. Л.
2000 г.
Фора, указатель и условные сигнальные элементы пения птиц. В «Сигнализация и дизайн сигналов в общении с животными» (ред. Эспмарк Ю., Амундсен Т., Розенквист Г.), стр. 277–300
Тронхейм, Норвегия: Tapir Academic Press [Google Scholar] 36.Марлер П.
2004 г.
Крики птиц: рог изобилия для общения. В музыке природы: наука о пении птиц (ред. Марлер П., Слаббекорн Х.), стр. 132–177.
Амстердам, Нидерланды: Elsevier Academic Press [Google Scholar] 37. Хаммершмидт К., Фишер Дж.
2008 г.
Ограничения в производстве голоса приматов. В «Эволюция коммуникативной гибкости: сложность, креативность и адаптивность в общении людей и животных» (ред. Оллер Д. К., Грибель У.), стр. 93–119.
Кембридж, Массачусетс: MIT Press [Google Scholar] 38.Шеннон К. Э., Уивер В.
1949 г.
Математическая теория коммуникации. Урбана, Иллинойс: University of Illinois Press [Google Scholar] 39. Фриберг Т. М., Лукас Дж. Р.
2011 г.
Информационно-теоретические подходы к крикам цыплят каролинских кур ( Poecile carolinensis ). J. Comp. Psychol.
125, 68–81 [PubMed] [Google Scholar] 40. Орд Т. Дж., Мартинс Э. П.
2006 г.
Отслеживание происхождения разнообразия сигналов у аноловых ящериц: филогенетические подходы к выводу об эволюции сложного поведения.Anim Behav.
71, 1411–142910.1016 / j.anbehav.2005.12.003 (doi: 10.1016 / j.anbehav.2005.12.003) [CrossRef] [Google Scholar] 48. Вассерман С., Фауст К.
1994 г.
Анализ социальных сетей: методы и приложения. Кембридж, Великобритания: Издательство Кембриджского университета [Google Scholar] 49. Крофт Д. П., Джеймс Р., Краузе Дж.
2008 г.
Изучение социальных сетей животных. Принстон, Нью-Джерси: Издательство Принстонского университета [Google Scholar] 51. Уайтхед Х.
2008 г.
Анализ сообществ животных: количественные методы социального анализа позвоночных.Чикаго, Иллинойс: Издательство Чикагского университета [Google Scholar] 54. Алерстам Т.
Фриберг Т. М., Лукас Дж. Р.
2011 г.
Информационно-теоретические подходы к крикам цыплят каролинских кур ( Poecile carolinensis ). J. Comp. Psychol.
125, 68–81 [PubMed] [Google Scholar] 40. Орд Т. Дж., Мартинс Э. П.
2006 г.
Отслеживание происхождения разнообразия сигналов у аноловых ящериц: филогенетические подходы к выводу об эволюции сложного поведения.Anim Behav.
71, 1411–142910.1016 / j.anbehav.2005.12.003 (doi: 10.1016 / j.anbehav.2005.12.003) [CrossRef] [Google Scholar] 48. Вассерман С., Фауст К.
1994 г.
Анализ социальных сетей: методы и приложения. Кембридж, Великобритания: Издательство Кембриджского университета [Google Scholar] 49. Крофт Д. П., Джеймс Р., Краузе Дж.
2008 г.
Изучение социальных сетей животных. Принстон, Нью-Джерси: Издательство Принстонского университета [Google Scholar] 51. Уайтхед Х.
2008 г.
Анализ сообществ животных: количественные методы социального анализа позвоночных.Чикаго, Иллинойс: Издательство Чикагского университета [Google Scholar] 54. Алерстам Т. , Нильссон С. Г., Ульфстранд С.
1974 г.
Дифференциация ниши зимой у лесных птиц на юге Швеции и на острове Готланд. Ойкос
25, 321–33010.2307 / 3543950 (DOI: 10.2307 / 3543950) [CrossRef] [Google Scholar] 55. Хайнде Р. А.
1952 г.
Поведение большой синицы ( Parus major ) и некоторых других родственных ей видов. Поведение (Дополнение) 2, 1–201 [Google Scholar] 56. Алатало Р. В., Карлссон А.
1987 г.
Выбор места накопления ивовой синицы Parus montanus при наличии сибирской синицы Parus cinctus .Омис Фенн.
64, 1–9 [Google Scholar] 57. ДельБарко-Трилло Дж., Беркерт Б. А., Гудвин Т. Э., Дреа К. М.
2011 г.
Ночь и день: сравнительное исследование приматов стрепсиррейна выявляет социоэкологические и филогенетические закономерности в обонятельных сигналах. J. Evol. Биол.
24, 82–9810.1111 / j.1420-9101.2010.02145.x (doi: 10.1111 / j.1420-9101.2010.02145.x) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 61. Блюмштейн Д. Т., Армитаж К. Б.
1997 г.
Управляет ли социальность эволюцией коммуникативной сложности? Сравнительный тест с тревожными сигналами наземных сциурид.
, Нильссон С. Г., Ульфстранд С.
1974 г.
Дифференциация ниши зимой у лесных птиц на юге Швеции и на острове Готланд. Ойкос
25, 321–33010.2307 / 3543950 (DOI: 10.2307 / 3543950) [CrossRef] [Google Scholar] 55. Хайнде Р. А.
1952 г.
Поведение большой синицы ( Parus major ) и некоторых других родственных ей видов. Поведение (Дополнение) 2, 1–201 [Google Scholar] 56. Алатало Р. В., Карлссон А.
1987 г.
Выбор места накопления ивовой синицы Parus montanus при наличии сибирской синицы Parus cinctus .Омис Фенн.
64, 1–9 [Google Scholar] 57. ДельБарко-Трилло Дж., Беркерт Б. А., Гудвин Т. Э., Дреа К. М.
2011 г.
Ночь и день: сравнительное исследование приматов стрепсиррейна выявляет социоэкологические и филогенетические закономерности в обонятельных сигналах. J. Evol. Биол.
24, 82–9810.1111 / j.1420-9101.2010.02145.x (doi: 10.1111 / j.1420-9101.2010.02145.x) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 61. Блюмштейн Д. Т., Армитаж К. Б.
1997 г.
Управляет ли социальность эволюцией коммуникативной сложности? Сравнительный тест с тревожными сигналами наземных сциурид. Являюсь. Nat.
150, 179–20010.1086 / 286062 (DOI: 10.1086 / 286062) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 63. Мансер М. Б.
1998 г.
Эволюция слуховой коммуникации у сурикатов, Suricata suricatta . Докторская диссертация, Кембриджский университет, Кембридж, Великобритания [Google Scholar] 66. Бейкер К. М.
1984 г.
Социально-заботливое поведение содержащихся в неволе стройных мангустов ( Herpestes sanguineus ). Млекопитающие
48, 43–52 [Google Scholar] 67. Уилкинсон Г. С.
2003 г.
Социальная и вокальная сложность у летучих мышей. В социальной сложности животных: интеллект, культура и индивидуализированные общества (ред. ДеВаал Ф.Б. М., Тяк П. Л.), стр. 322–341.
Кембридж, Массачусетс: Издательство Гарвардского университета [Google Scholar] 69. Хайльман Дж. П., Фикен М. С.
1996 г.
Сравнительный анализ вокального репертуара применительно к синицам. В экологии и эволюции акустической коммуникации у птиц (ред. Кроудсма Д. Э., Миллер Э. Х.), стр. 136–159.
Итака, Нью-Йорк: Comstock Publishing [Google Scholar] 70.
Являюсь. Nat.
150, 179–20010.1086 / 286062 (DOI: 10.1086 / 286062) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 63. Мансер М. Б.
1998 г.
Эволюция слуховой коммуникации у сурикатов, Suricata suricatta . Докторская диссертация, Кембриджский университет, Кембридж, Великобритания [Google Scholar] 66. Бейкер К. М.
1984 г.
Социально-заботливое поведение содержащихся в неволе стройных мангустов ( Herpestes sanguineus ). Млекопитающие
48, 43–52 [Google Scholar] 67. Уилкинсон Г. С.
2003 г.
Социальная и вокальная сложность у летучих мышей. В социальной сложности животных: интеллект, культура и индивидуализированные общества (ред. ДеВаал Ф.Б. М., Тяк П. Л.), стр. 322–341.
Кембридж, Массачусетс: Издательство Гарвардского университета [Google Scholar] 69. Хайльман Дж. П., Фикен М. С.
1996 г.
Сравнительный анализ вокального репертуара применительно к синицам. В экологии и эволюции акустической коммуникации у птиц (ред. Кроудсма Д. Э., Миллер Э. Х.), стр. 136–159.
Итака, Нью-Йорк: Comstock Publishing [Google Scholar] 70. Лукас Дж. Р., Фриберг Т. М.
2007 г.
«Информация» и вызов цыпленка: общение со сложной голосовой системой. В кн .: Экология и поведение синих и синиц: комплексный подход (под ред.Оттер К. А.), стр. 199–213.
Оксфорд, Великобритания: Oxford University Press [Google Scholar] 71. Крепкий К. Б., Блумфилд Л. Л., Чарриер И., Ли Т. Т.-Й.
2007 г.
Вокальное производство и восприятие синицы: комплексный подход к пониманию акустической коммуникации. В книге «Экология и поведение синиц и синиц: комплексный подход» (ред. Оттер К. А.), стр. 153–166.
Оксфорд, Великобритания: Oxford University Press [Google Scholar] 74. Нолен М. Т., Лукас Дж. Р.
2009 г.
Асимметрия в поведении моббинга и коррелированная интенсивность во время моббинга хищников поползнями, синицами и синицами.Anim. Behav.
77, 1137–114610.1016 / j.anbehav.2009.01.023 (doi: 10.1016 / j.anbehav.2009.01.023) [CrossRef] [Google Scholar] 76. Бартмесс-ЛеВассер Дж., Бранч К. Л., Браунинг С. А., Оуэнс Дж. Л., Фриберг Т. М.
2010 г.
Стимулы хищников и кричащее поведение каролинских кур ( Poecile carolinensis ), хохлатых синиц ( Baeolophus bicolor ) и белогрудых поползней ( Sitta carolinensis ).
Лукас Дж. Р., Фриберг Т. М.
2007 г.
«Информация» и вызов цыпленка: общение со сложной голосовой системой. В кн .: Экология и поведение синих и синиц: комплексный подход (под ред.Оттер К. А.), стр. 199–213.
Оксфорд, Великобритания: Oxford University Press [Google Scholar] 71. Крепкий К. Б., Блумфилд Л. Л., Чарриер И., Ли Т. Т.-Й.
2007 г.
Вокальное производство и восприятие синицы: комплексный подход к пониманию акустической коммуникации. В книге «Экология и поведение синиц и синиц: комплексный подход» (ред. Оттер К. А.), стр. 153–166.
Оксфорд, Великобритания: Oxford University Press [Google Scholar] 74. Нолен М. Т., Лукас Дж. Р.
2009 г.
Асимметрия в поведении моббинга и коррелированная интенсивность во время моббинга хищников поползнями, синицами и синицами.Anim. Behav.
77, 1137–114610.1016 / j.anbehav.2009.01.023 (doi: 10.1016 / j.anbehav.2009.01.023) [CrossRef] [Google Scholar] 76. Бартмесс-ЛеВассер Дж., Бранч К. Л., Браунинг С. А., Оуэнс Дж. Л., Фриберг Т. М.
2010 г.
Стимулы хищников и кричащее поведение каролинских кур ( Poecile carolinensis ), хохлатых синиц ( Baeolophus bicolor ) и белогрудых поползней ( Sitta carolinensis ).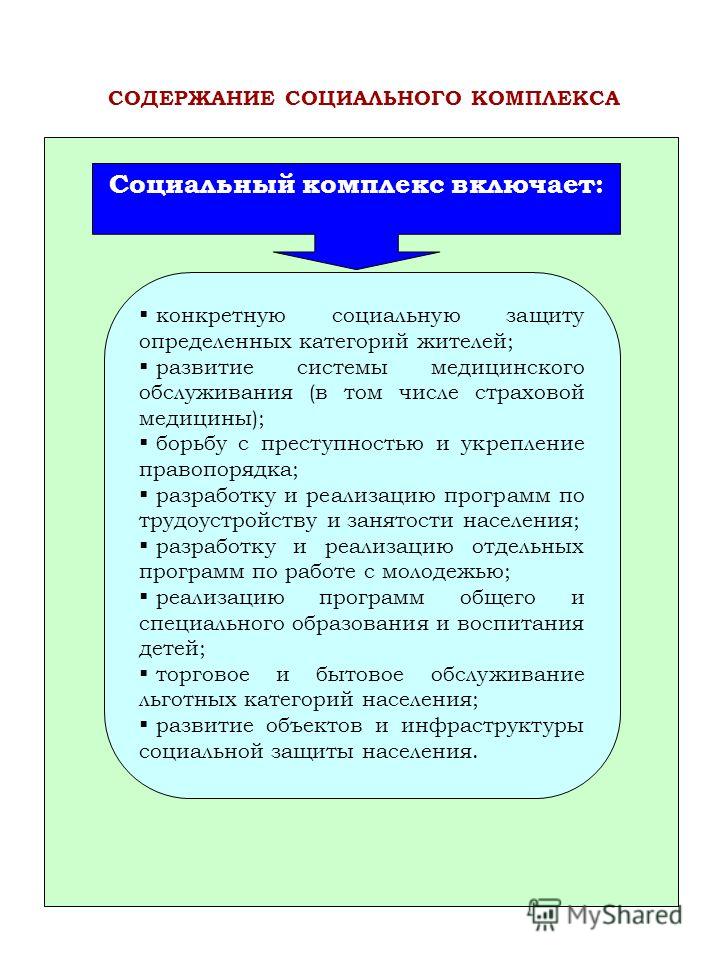 Behav. Ecol. Sociobiol.
64, 1187–119810.1007 / s00265-010-0935-y (doi: 10.1007 / s00265-010-0935-y) [CrossRef] [Google Scholar] 77.Фриберг Т. М., Лукас Дж. Р.
2002 г.
Приемники по-разному реагируют на звонки цыплят, различающиеся по составу нот у каролинских синих, Poecile carolinensis . Anim. Behav.
63, 837–84510.1006 / anbe.2001.1981 (DOI: 10.1006 / anbe.2001.1981) [CrossRef] [Google Scholar] 79. Смит С. Т.
1972 г.
Коммуникация и другое социальное поведение у Parus carolinensis. Публикация Nuttall Ornithological Club No. 11.
Кембридж, Массачусетс: Орнитологический клуб Наттолла [Google Scholar] 80. Фриберг Т. М.
2008 г.
Сложность крика цыплят каролинских кур ( Poecile carolinensis ): ассоциации контекста и поведения сигнализатора со структурой вызова.Аук
125, 896–90710.1525 / auk.2008.07025 (doi: 10.1525 / auk.2008.07025) [CrossRef] [Google Scholar] 82. Маэстрипьери Д.
2005 г.
Жестовая коммуникация у трех видов макак ( Macaca mulatta, M. nemestrina, M. arctoides ): использование сигналов в отношении доминирования и социального контекста.
Behav. Ecol. Sociobiol.
64, 1187–119810.1007 / s00265-010-0935-y (doi: 10.1007 / s00265-010-0935-y) [CrossRef] [Google Scholar] 77.Фриберг Т. М., Лукас Дж. Р.
2002 г.
Приемники по-разному реагируют на звонки цыплят, различающиеся по составу нот у каролинских синих, Poecile carolinensis . Anim. Behav.
63, 837–84510.1006 / anbe.2001.1981 (DOI: 10.1006 / anbe.2001.1981) [CrossRef] [Google Scholar] 79. Смит С. Т.
1972 г.
Коммуникация и другое социальное поведение у Parus carolinensis. Публикация Nuttall Ornithological Club No. 11.
Кембридж, Массачусетс: Орнитологический клуб Наттолла [Google Scholar] 80. Фриберг Т. М.
2008 г.
Сложность крика цыплят каролинских кур ( Poecile carolinensis ): ассоциации контекста и поведения сигнализатора со структурой вызова.Аук
125, 896–90710.1525 / auk.2008.07025 (doi: 10.1525 / auk.2008.07025) [CrossRef] [Google Scholar] 82. Маэстрипьери Д.
2005 г.
Жестовая коммуникация у трех видов макак ( Macaca mulatta, M. nemestrina, M. arctoides ): использование сигналов в отношении доминирования и социального контекста. Жест
5, 57–7310.1075 / gest.5.1.06mae (doi: 10.1075 / gest.5.1.06mae) [CrossRef] [Google Scholar] 90. Харкорт А. Х.
1992 г.
Коалиции и союзы: являются ли приматы более сложными, чем неприматы? В коалициях и альянсах людей и других животных (ред. Харкорт А.Х., де Вааль Ф. Б. М.). Оксфорд, Великобритания: Oxford University Press [Google Scholar] 92. Чейни Д. Л., Сейфарт Р. М., Силк Дж. Б.
1995 г.
Роль пехотинцев в примирении противников и облегчении взаимодействия между самками павианов. Anim. Behav.
50, 249–25710.1006 / anbe.1995.0237 (doi: 10.1006 / anbe.1995.0237) [CrossRef] [Google Scholar] 93. Аурели Ф., Кордс М., ван Шайк К. П.
2002 г.
Разрешение конфликта после агрессии у стадных животных: прогностическая основа. Anim. Behav.
64, 325–34310.1006 / anbe.2002.3071 (DOI: 10.1006 / anbe.2002.3071) [CrossRef] [Google Scholar] 94. Ван Хофф Дж. А. Р. А. М.
1969 г.
Лица катарринских обезьян и обезьян. В этологии приматов (ред. Моррис Д.), стр. 9–88.
Гарден-Сити, Нью-Йорк: якорь [Google Scholar] 95.
Жест
5, 57–7310.1075 / gest.5.1.06mae (doi: 10.1075 / gest.5.1.06mae) [CrossRef] [Google Scholar] 90. Харкорт А. Х.
1992 г.
Коалиции и союзы: являются ли приматы более сложными, чем неприматы? В коалициях и альянсах людей и других животных (ред. Харкорт А.Х., де Вааль Ф. Б. М.). Оксфорд, Великобритания: Oxford University Press [Google Scholar] 92. Чейни Д. Л., Сейфарт Р. М., Силк Дж. Б.
1995 г.
Роль пехотинцев в примирении противников и облегчении взаимодействия между самками павианов. Anim. Behav.
50, 249–25710.1006 / anbe.1995.0237 (doi: 10.1006 / anbe.1995.0237) [CrossRef] [Google Scholar] 93. Аурели Ф., Кордс М., ван Шайк К. П.
2002 г.
Разрешение конфликта после агрессии у стадных животных: прогностическая основа. Anim. Behav.
64, 325–34310.1006 / anbe.2002.3071 (DOI: 10.1006 / anbe.2002.3071) [CrossRef] [Google Scholar] 94. Ван Хофф Дж. А. Р. А. М.
1969 г.
Лица катарринских обезьян и обезьян. В этологии приматов (ред. Моррис Д.), стр. 9–88.
Гарден-Сити, Нью-Йорк: якорь [Google Scholar] 95. Уоллер Б., Данбар Р. И. М.
2008 г.
Дифференциальные поведенческие эффекты «улыбки» и «смеха» у шимпанзе ( Pan troglodytes ). Этология
111, 129–142 [Google Scholar] 96. Шульц С., Данбар Р. И. М.
2010 г.
Социальные связи у птиц связаны с размером мозга и зависят от коррелированной эволюции жизненного цикла и увеличения родительского вклада.Биол. Дж. Линн. Soc.
100, 111–12310.1111 / j.1095-8312.2010.01427.x (doi: 10.1111 / j.1095-8312.2010.01427.x) [CrossRef] [Google Scholar] 99. Данбар Р. И. М.
2011 г.
Эволюционная основа социального мозга. В Оксфордском справочнике по социальной нейробиологии (редакторы Decety J., Cacioppo J.), стр. 28–38.
Оксфорд, Великобритания: Oxford University Press [Google Scholar] 105. Провин Р.
1996 г.
Смех: научное исследование. Лондон, Великобритания: Faber & Faber [Google Scholar] 107. Фридлунд А. Дж.
1994 г.
Выражение лица человека: эволюционный взгляд.Нью-Йорк, Нью-Йорк: Academic Press [Google Scholar] 108. Эйбл-Эйбесфельдт И.
1972 г.
Сходства и различия культур в выразительных движениях.
Уоллер Б., Данбар Р. И. М.
2008 г.
Дифференциальные поведенческие эффекты «улыбки» и «смеха» у шимпанзе ( Pan troglodytes ). Этология
111, 129–142 [Google Scholar] 96. Шульц С., Данбар Р. И. М.
2010 г.
Социальные связи у птиц связаны с размером мозга и зависят от коррелированной эволюции жизненного цикла и увеличения родительского вклада.Биол. Дж. Линн. Soc.
100, 111–12310.1111 / j.1095-8312.2010.01427.x (doi: 10.1111 / j.1095-8312.2010.01427.x) [CrossRef] [Google Scholar] 99. Данбар Р. И. М.
2011 г.
Эволюционная основа социального мозга. В Оксфордском справочнике по социальной нейробиологии (редакторы Decety J., Cacioppo J.), стр. 28–38.
Оксфорд, Великобритания: Oxford University Press [Google Scholar] 105. Провин Р.
1996 г.
Смех: научное исследование. Лондон, Великобритания: Faber & Faber [Google Scholar] 107. Фридлунд А. Дж.
1994 г.
Выражение лица человека: эволюционный взгляд.Нью-Йорк, Нью-Йорк: Academic Press [Google Scholar] 108. Эйбл-Эйбесфельдт И.
1972 г.
Сходства и различия культур в выразительных движениях. В невербальном общении (ред. Хайнде Р. А.), стр. 297–312.
Кембридж, Великобритания: Издательство Кембриджского университета [Google Scholar] 111. Уайли Р. Х., Ричардс Д. Г.
1982 г.
Адаптации для акустической коммуникации у птиц: передача звука и обнаружение сигналов. В Акустическая коммуникация у птиц, т. 1: особенности производства, восприятия и дизайна звуков (ред. Кроудсма Д.Э., Миллер Э. Х.), стр. 131–181.
Нью-Йорк, Нью-Йорк: Academic Press [Google Scholar] 118. Киршель А. Н., Блюмштейн Д. Т., Коэн Р. Э., Буэрманн В., Смит Т. Б., Слаббекорн Х.
2009 г.
Пение птиц настроено на окружающую среду: песня зеленого хилии меняется в зависимости от высоты, древесного покрова и шума. Behav. Ecol.
20, 1089–109510.1093 / beheco / arp101 (doi: 10.1093 / beheco / arp101) [CrossRef] [Google Scholar] 120. Хебец Э. А., Страттон Г. Э., Миллер Г. Л.
1996 г.
Среда обитания и ухаживание паука-волка Schizocosa retrorsa (Banks) (Araneae, Lycosidae).J. Arachnol.
24, 141–147 [Google Scholar] 134.
В невербальном общении (ред. Хайнде Р. А.), стр. 297–312.
Кембридж, Великобритания: Издательство Кембриджского университета [Google Scholar] 111. Уайли Р. Х., Ричардс Д. Г.
1982 г.
Адаптации для акустической коммуникации у птиц: передача звука и обнаружение сигналов. В Акустическая коммуникация у птиц, т. 1: особенности производства, восприятия и дизайна звуков (ред. Кроудсма Д.Э., Миллер Э. Х.), стр. 131–181.
Нью-Йорк, Нью-Йорк: Academic Press [Google Scholar] 118. Киршель А. Н., Блюмштейн Д. Т., Коэн Р. Э., Буэрманн В., Смит Т. Б., Слаббекорн Х.
2009 г.
Пение птиц настроено на окружающую среду: песня зеленого хилии меняется в зависимости от высоты, древесного покрова и шума. Behav. Ecol.
20, 1089–109510.1093 / beheco / arp101 (doi: 10.1093 / beheco / arp101) [CrossRef] [Google Scholar] 120. Хебец Э. А., Страттон Г. Э., Миллер Г. Л.
1996 г.
Среда обитания и ухаживание паука-волка Schizocosa retrorsa (Banks) (Araneae, Lycosidae).J. Arachnol.
24, 141–147 [Google Scholar] 134. Хобель Г., Герхардт Х. К.
2003 г.
Смещение репродуктивного характера в системе акустической коммуникации зеленых древесных лягушек ( Hyla cinerea ). Эволюция
57, 894–904 [PubMed] [Google Scholar] 136. Фигуэрола Дж., Грин А. Дж.
2000 г.
Эволюция полового диморфизма в отношении моделей спаривания, гнездования в полости, изолированности и симпатрии у гусеобразных. Функц. Ecol.
14, 701–71010.1046 / j.1365-2435.2000.00474.x (DOI: 10.1046 / j.1365-2435.2000.00474.x) [CrossRef] [Google Scholar] 142. Päckert M., Martens J., Kosuch J., Назаренко А.А., Вьет М.
2003 г.
Филогенетический сигнал в песне гребней и царей (Aves: Regulus ). Эволюция
57, 616–629 [PubMed] [Google Scholar] 144. Гумм Дж. М., Мендельсон Т. К.
2011 г.
Эволюция многокомпонентных зрительных сигналов у дартеров (род Etheostoma ). Curr. Zool.
57, 125–139 [Google Scholar] 146. Вишманн С., Флореано Д., Келлер Л.
2012 г.
Историческая непредвиденная ситуация влияет на сигнальные стратегии и конкурентные способности в развивающихся популяциях смоделированных роботов.
Хобель Г., Герхардт Х. К.
2003 г.
Смещение репродуктивного характера в системе акустической коммуникации зеленых древесных лягушек ( Hyla cinerea ). Эволюция
57, 894–904 [PubMed] [Google Scholar] 136. Фигуэрола Дж., Грин А. Дж.
2000 г.
Эволюция полового диморфизма в отношении моделей спаривания, гнездования в полости, изолированности и симпатрии у гусеобразных. Функц. Ecol.
14, 701–71010.1046 / j.1365-2435.2000.00474.x (DOI: 10.1046 / j.1365-2435.2000.00474.x) [CrossRef] [Google Scholar] 142. Päckert M., Martens J., Kosuch J., Назаренко А.А., Вьет М.
2003 г.
Филогенетический сигнал в песне гребней и царей (Aves: Regulus ). Эволюция
57, 616–629 [PubMed] [Google Scholar] 144. Гумм Дж. М., Мендельсон Т. К.
2011 г.
Эволюция многокомпонентных зрительных сигналов у дартеров (род Etheostoma ). Curr. Zool.
57, 125–139 [Google Scholar] 146. Вишманн С., Флореано Д., Келлер Л.
2012 г.
Историческая непредвиденная ситуация влияет на сигнальные стратегии и конкурентные способности в развивающихся популяциях смоделированных роботов. Proc. Natl Acad. Sci. США
109, 864–868 [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 148. Орд Т. Дж., Чарльз Г. К., Хоффер Р. К.
2011 г.
Эволюция альтернативных адаптивных стратегий для эффективного общения в шумной среде. Являюсь. Nat.
177, 54–6410.1086 / 657439 (DOI: 10.1086 / 657439) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 149. Краузе Дж., Ракстон Г. Д.
2002 г.
Живут группами. Оксфорд, Великобритания: Oxford University Press [Google Scholar]
Proc. Natl Acad. Sci. США
109, 864–868 [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 148. Орд Т. Дж., Чарльз Г. К., Хоффер Р. К.
2011 г.
Эволюция альтернативных адаптивных стратегий для эффективного общения в шумной среде. Являюсь. Nat.
177, 54–6410.1086 / 657439 (DOI: 10.1086 / 657439) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 149. Краузе Дж., Ракстон Г. Д.
2002 г.
Живут группами. Оксфорд, Великобритания: Oxford University Press [Google Scholar]Понимание общества: социальная сложность
Социальные ансамбли часто называют «сложными».Что это значит?
Герберт Саймон — один из выдающихся мыслителей в изучении сложности. Его статья 1962 года «Архитектура сложности» (ссылка) выдвинула несколько идей, которые стали ключевыми в концептуальных рамках людей, которые сейчас изучают социальную сложность. Поэтому стоит выделить несколько ключевых идей, выдвинутых в этой статье. Вот определение сложности, данное Саймоном:
Грубо говоря, под сложной системой я подразумеваю систему, состоящую из большого количества частей, которые взаимодействуют непростым образом.Обратите внимание на несколько ключевых идей, содержащихся здесь, а также на некоторые вещи, о которых не говорится. Во-первых, сложность системы проистекает из «непростого» характера взаимодействия ее частей (подсистем).Часы — это простая система, потому что они состоят из множества частей, но поведение целого — это простая сумма прямых механических взаимодействий частей. Часовая пружина обеспечивает (приблизительно) постоянный импульс зубчатому колесу, вызывая регулярное во времени движение шестерен. Это движение продвигает вперед регистры времени (секунды, минуты, часы) полностью предсказуемым образом. Если натяжение пружины влияет не только на шестерню, но и на величину шага минутной стрелки; или если импульс, создаваемый пружиной, значительно варьировался в зависимости от положения часовой и секундной стрелок и ориентации пружины — тогда поведение часов было бы «сложным».В таких системах целое — это больше, чем сумма частей, не в конечном метафизическом смысле, а в важном прагматическом смысле, который, учитывая свойства частей и законы их взаимодействия, не является тривиальным вопросом. сделать вывод о свойствах целого. Перед лицом сложности принципиальный редукционист может быть в то же время прагматическим холистом. (468)
 Было бы сложно или невозможно предсказать состояние регистров времени, подсчитывая такты на часовой шестерне. Итак, это первое утверждение идеи сложности: факт множественных причинных взаимодействий между многими частями (подсистемами), составляющими всю систему.
Было бы сложно или невозможно предсказать состояние регистров времени, подсчитывая такты на часовой шестерне. Итак, это первое утверждение идеи сложности: факт множественных причинных взаимодействий между многими частями (подсистемами), составляющими всю систему. Вторая основная идея заключается в том, что поведение системы трудно предсказать из-за непростых взаимодействий между частями. В сложной системе мы не можем предоставить простую модель агрегирования системы, которая суммирует независимое поведение частей; скорее, на поведение частей влияет поведение других компонентов.Состояние системы фиксируется взаимозависимыми подсистемами; что означает, что поведение системы может сильно колебаться при явно схожих начальных условиях. (Это одно из объяснений аварии на Чернобыльской АЭС: инженеры пытались «направить» систему до безопасного останова, манипулируя сразу несколькими системами управления; но эти системы управления оказали комплексное влияние друг на друга, в результате чего инженеры катастрофически потеряли контроль над системой. )
)
Третий важный момент здесь — различие Саймона между «метафизической сводимостью» и «прагматическим холизмом».«Он принимает то, что мы сегодня назвали бы принципом супервентности: состояние системы супервентно на состояния частей. Но он отвергает возможность выполнения сведения поведения системы к учету свойств частей. Он не использует здесь понятие «эмерджентность», но это был бы другой способ выразить свою точку зрения: метафизически эмерджентное свойство системы — это то, которое в принципе не может быть выведено из характеристик частей. Прагматически эмерджентное свойство это тот, который супервентен на свойства частей, но где с вычислительной точки зрения сложно или невозможно отобразить функцию из состояния частей в состояние системы.Этот момент имеет некоторое отношение к идее «относительной объяснительной автономии», упомянутой в более ранней публикации (ссылка). Последняя идея постулирует, что мы можем иногда обнаруживать системные свойства (причинные силы) сложной системы, которые в принципе фиксируются лежащими в основе частями, но когда невозможно или не нужно обнаруживать конкретные причинные последовательности, через которые свойства системы приходят к быть такими, какие они есть.
Еще одна ключевая идея в этой статье — идея Саймона об иерархической системе.
Под иерархической системой или иерархией я подразумеваю систему, которая состоит из взаимосвязанных подсистем, каждая из которых, в свою очередь, является иерархической по структуре до тех пор, пока мы не достигнем некоторого нижнего уровня элементарной подсистемы. (468)
Я уже приводил пример одного вида иерархии, который часто встречается в социальных науках: формальная организация. Бизнесы, правительства, университеты — все имеют четко видимую структуру частей внутри частей. (469)Здесь тоже важна идея.Это формальная спецификация определенного типа ансамбля, в котором структуры на одном уровне агрегирования состоят отдельно из структур или подсистем на более низком уровне агрегирования. Саймон предлагает пример биологической клетки, которую можно проанализировать на набор исчерпывающих и взаимно независимых подсистем, вложенных друг в друга.
 Существенно, что существует отношение замкнутости по мере того, как мы спускаемся по иерархии структур: подструктуры уровня S полностью содержатся внутри него и не служат подструктурами какой-либо другой системы S ‘.
Существенно, что существует отношение замкнутости по мере того, как мы спускаемся по иерархии структур: подструктуры уровня S полностью содержатся внутри него и не служат подструктурами какой-либо другой системы S ‘.Трудно вспомнить биологические примеры, которые нарушают условия иерархии — хотя мы можем спросить, можно ли лучше всего понимать организм и его симбиот как неиерархическую систему. Но примеры легко доступны в социальном мире. Профсоюзы и корпоративные ПКК играют важную причинную роль в современных демократиях. Но они не являются подсистемами политического процесса в иерархическом смысле: они не содержатся в государстве, и они также играют роль в негосударственных системах.(Группа бизнес-лобби может влиять как на политику, выбранную единицей правительства, так и на бизнес-стратегию системы здравоохранения.)
Саймон, похоже, считает, что иерархии уменьшают сложность систем; и они поддерживают функцию того, что мы теперь назвали бы «модульностью», когда мы можем рассматривать работу подсистемы как замкнутую единицу, которая работает примерно одинаково, независимо от того, какие изменения происходят в других подсистемах.
Саймон выражает эту точку зрения на своем собственном языке «разложимости».«Система является разлагаемой, если мы можем разделить ее поведение на сумму независимых поведений ее частей. Система является« почти разложимой », если части системы оказывают некоторое влияние друг на друга, но эти эффекты малы по сравнению с общая работа системы.
По крайней мере некоторые виды иерархических систем могут быть успешно аппроксимированы как почти разложимые системы.Основные теоретические выводы этого подхода можно суммировать в двух предложениях:
(a) в почти разложимой системе , краткосрочное поведение каждой из компонентных подсистем приблизительно не зависит от краткосрочного поведения других компонентов; (б) в долгосрочном периоде поведение любого из компонентов зависит только совокупным образом от поведение остальных компонентов.(474)Он иллюстрирует этот момент на примере социальных систем в следующих терминах:
В динамике социальных систем, где члены системы общаются с другими членами и влияют на них, почти разложимость обычно очень заметна.И в итоге:Это наиболее очевидно в формальных организациях, где формальные властные отношения связывают каждого члена организации с одним непосредственным начальником и с небольшим количеством подчиненных. Конечно, многие коммуникации в организациях идут по другим каналам, помимо формального авторитета.Но большинство этих каналов ведет от любого конкретного человека к очень ограниченному числу его начальников, подчиненных и соратников. Следовательно, границы отделов играют примерно ту же роль, что и стены в нашем примере с теплом. (475)
Мы видели, что иерархии обладают свойством почти разложимости. Внутрикомпонентные связи обычно сильнее, чем межкомпонентные. Этот факт имеет эффект отделения высокочастотной динамики иерархии, включающей внутреннюю структуру компонентов, от низкочастотной динамики, включающей взаимодействие между компонентами.(477)
Так почему Саймон ожидает, что системы в целом будут иерархическими, а иерархии будут почти разложимыми? Оказывается, это ожидание, проистекающее из представления о том, что системы были созданы дизайнерами (которые, безусловно, предпочли бы эти функции, потому что они делают систему предсказуемой и понятной) или эволюционировали в результате некоторого процесса естественного отбора от более простых к более сложным агломерациям.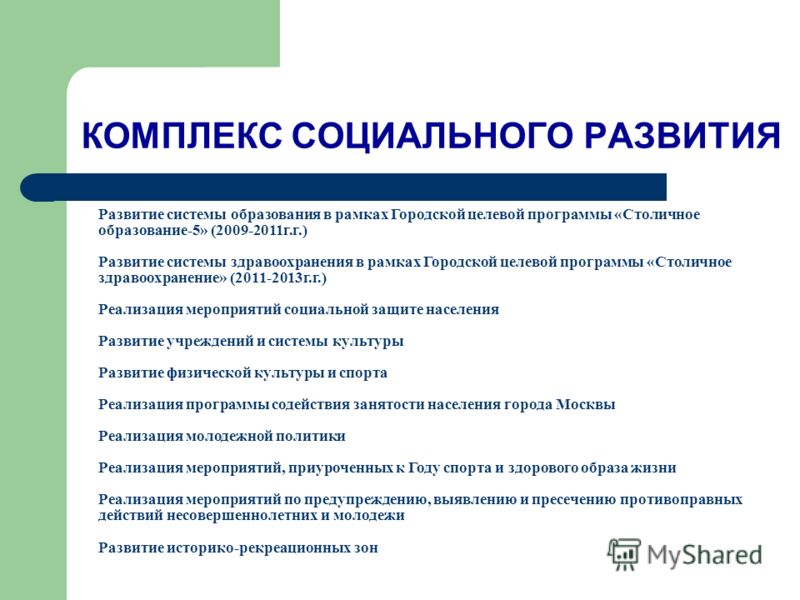 Таким образом, можно ожидать, что гидроэлектростанции и схемы датчиков движения в зрительных системах лягушек будут иерархическими и почти неразложимыми.
Таким образом, можно ожидать, что гидроэлектростанции и схемы датчиков движения в зрительных системах лягушек будут иерархическими и почти неразложимыми.
Но вот важный момент, касающийся социальной сложности. Ни одно из этих ожиданий вряд ли будет удовлетворено в случае социальных систем. Возьмите причинные процессы (подсистемы), из которых состоит город. И рассмотрите некоторые совокупные свойства, которые могут нас заинтересовать — эмиграция, переселение, уровень преступности, прогулы в школе, стоимость недвижимости. Некоторые процессы, влияющие на эти свойства, разработаны (советы по зонированию, системы управления школами), но многие — нет. Напротив, они являются результатом отдельных и нетелеологических процессов, ведущих к настоящему.И часто между этими отдельными процессами существует высокая степень причинного взаимодействия. В результате было бы более разумно ожидать, вопреки рассуждению Саймона, что социальные системы, вероятно, будут воплощать большую сложность и меньшую разложимость, чем системы, которые он использует в качестве примеров.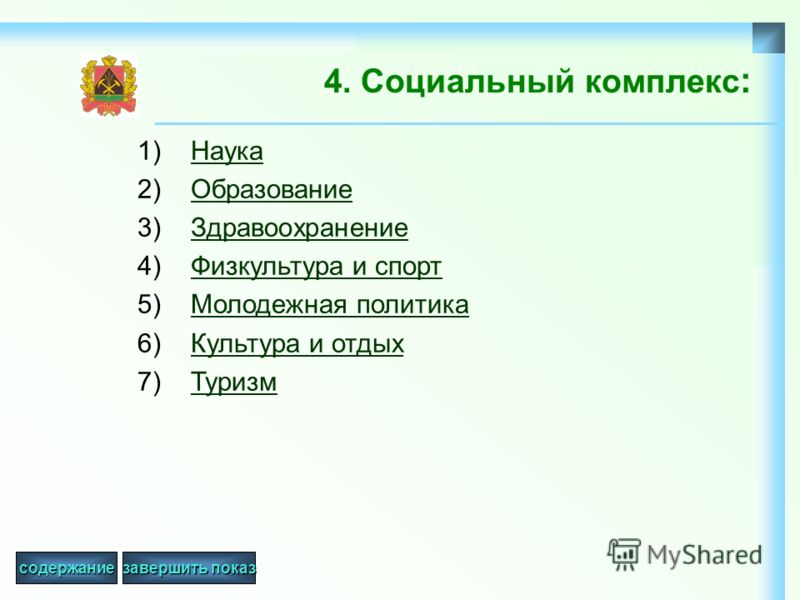
Социальная сложность и личность | Поведенческие и социальные науки в Nature Portfolio
Если я знаю что-то о том, как вы ведете себя в некоторых настройках, я, вероятно, могу предсказать, как вы могли бы себя вести в других настройках. Например, застенчивый в одном контексте вряд ли окажется самым общительным в другом. Таким образом, мы говорим о людях, обладающих «личностями».Кроме того, различное поведение имеет тенденцию к ковариванию. Например, общительные люди также могут быть напористыми. Ковариация поведенческих тенденций не является случайной и не определяется полностью генами. Социальная и экологическая среда, в которой мы развиваемся, представляет как возможности, так и ограничения для поведения . В некоторых культурах могут быть строгие нормы, которые эффективно устраняют различия в некоторых поведенческих характеристиках, позволяя варьироваться другим. Например, среди аче в восточном Парагвае строго запрещены явные проявления печали или горя (Hill and Hurtado 2017), что ограничивает различие в том, насколько эмоционально реактивным может казаться человек.
Социальная и экологическая среда, в которой мы развиваемся, представляет как возможности, так и ограничения для поведения . В некоторых культурах могут быть строгие нормы, которые эффективно устраняют различия в некоторых поведенческих характеристиках, позволяя варьироваться другим. Например, среди аче в восточном Парагвае строго запрещены явные проявления печали или горя (Hill and Hurtado 2017), что ограничивает различие в том, насколько эмоционально реактивным может казаться человек.
Социально-экологическая среда формирует нас. В пределах одной популяции разные люди в конечном итоге получают несколько разный опыт в том, что можно было бы назвать социоэкологическими нишами. Разные возможности, разные цели, разные должности, разные роли. В рамках социально-экологической ниши определенные поведенческие характеристики могут способствовать большему или меньшему успеху и более или менее подкрепляться.
Мы выдвигаем гипотезу о том, что общества различаются по личностным профилям своих членов, потому что общества различаются по количеству и разнообразию своих социально-экологических ниш. Грубо говоря, в «более простых» обществах меньше ниш, а в более «сложных» обществах больше ниш. В нашей новой статье Разнообразие ниш может объяснить межкультурные различия в структуре личности. Затем мы разрабатываем простую вычислительную модель, в которой мы операционализируем сложность общества как количество доступных ниш.Мы показываем, как различия в разнообразии ниш могут объяснить закономерности, которые мы видим в существующих эмпирических данных. Более того, модель привела к неожиданному предсказанию: в более сложных обществах личностные черты должны проявлять большую внутреннюю изменчивость. Это побудило к дополнительному анализу нашего набора данных по 55 странам, который подтвердил прогноз: дисперсия личностного фактора коррелирует с социально-экологической сложностью.
Грубо говоря, в «более простых» обществах меньше ниш, а в более «сложных» обществах больше ниш. В нашей новой статье Разнообразие ниш может объяснить межкультурные различия в структуре личности. Затем мы разрабатываем простую вычислительную модель, в которой мы операционализируем сложность общества как количество доступных ниш.Мы показываем, как различия в разнообразии ниш могут объяснить закономерности, которые мы видим в существующих эмпирических данных. Более того, модель привела к неожиданному предсказанию: в более сложных обществах личностные черты должны проявлять большую внутреннюю изменчивость. Это побудило к дополнительному анализу нашего набора данных по 55 странам, который подтвердил прогноз: дисперсия личностного фактора коррелирует с социально-экологической сложностью.
Этот проект возник по стечению обстоятельств. Майк Гурвен начал сбор данных о личности индейцев тсимане в Боливии, чтобы оценить затраты и выгоды для здоровья и фитнеса, связанные с различными типами личности. Но когда Крис фон Рюден и он начали анализировать данные, они поняли, что не могут воспроизвести личностную структуру Большой пятерки, которая часто считается универсальной для человека. Имея опыт работы в области антропологии и эволюционной биологии, они были удивлены, узнав, что в психологии личности не существует теории, которая могла бы создать структуру Большой пятерки из первых принципов. Как может Большая пятерка быть предполагаемой человеческой универсальностью, но мы мало понимаем, почему ковариация черт принимает эту точную форму по сравнению с другой? Размышления о том, почему «Большая двойка» Циманэ может отличаться от СТРАННОЙ «Большой пятерки», они начали задумываться о роли социальной структуры, разделения труда и специализации.Вместе с Аароном Лукашевски они разработали вербальную теорию того, как черты личности могут проявляться в ответ на социальную сложность, и проверили это на данных о личности из 55 стран (Gurven et al., 2013; Lukaszewski et al., 2017; Gurven, 2018).
Но когда Крис фон Рюден и он начали анализировать данные, они поняли, что не могут воспроизвести личностную структуру Большой пятерки, которая часто считается универсальной для человека. Имея опыт работы в области антропологии и эволюционной биологии, они были удивлены, узнав, что в психологии личности не существует теории, которая могла бы создать структуру Большой пятерки из первых принципов. Как может Большая пятерка быть предполагаемой человеческой универсальностью, но мы мало понимаем, почему ковариация черт принимает эту точную форму по сравнению с другой? Размышления о том, почему «Большая двойка» Циманэ может отличаться от СТРАННОЙ «Большой пятерки», они начали задумываться о роли социальной структуры, разделения труда и специализации.Вместе с Аароном Лукашевски они разработали вербальную теорию того, как черты личности могут проявляться в ответ на социальную сложность, и проверили это на данных о личности из 55 стран (Gurven et al., 2013; Lukaszewski et al., 2017; Gurven, 2018). В то же время я независимо разрабатывал теорию, связывающую социальную сложность с вариациями в передаче сигналов социальной идентичности, в которой использовались очень похожие аргументы (Smaldino, 2019). Я обнаружил, что мою теорию сложно моделировать, поскольку социальная идентичность не имеет устоявшихся, проверенных на кросс-культурном уровне парадигм измерения, и я искал способ добиться прогресса.В 2015 году мы с Аароном были на ежегодном собрании Общества человеческого поведения и эволюции в Колумбии, штат Миссури. Ранее мы не знали о работах друг друга по теме психологии и социальной сложности, но обнаружили сильное сходство в способах мышления. Мы начали разговаривать, делились мыслями и бумагами, и это сотрудничество было начато. Если повезет, последуют и другие.
В то же время я независимо разрабатывал теорию, связывающую социальную сложность с вариациями в передаче сигналов социальной идентичности, в которой использовались очень похожие аргументы (Smaldino, 2019). Я обнаружил, что мою теорию сложно моделировать, поскольку социальная идентичность не имеет устоявшихся, проверенных на кросс-культурном уровне парадигм измерения, и я искал способ добиться прогресса.В 2015 году мы с Аароном были на ежегодном собрании Общества человеческого поведения и эволюции в Колумбии, штат Миссури. Ранее мы не знали о работах друг друга по теме психологии и социальной сложности, но обнаружили сильное сходство в способах мышления. Мы начали разговаривать, делились мыслями и бумагами, и это сотрудничество было начато. Если повезет, последуют и другие.
Еще хочу поделиться заметкой о самой модели. Все очень просто. Некоторые аудитории указали, что он игнорирует ряд особенностей социальных сетей, развития и поведения.Это сделано намеренно. Первоначально мы спроектировали и построили гораздо более сложную модель, которая включала многие из этих вещей, в том числе частотно-зависимые выплаты в рамках ниш, членство в нескольких нишах и конкурирующие стремления к сходству и дифференциации. Мы провели симуляции, но у этой исходной модели было так много параметров, что анализировать ее было сложно и не особо информативно. Мы были вынуждены спросить себя: в чем суть нашей теории? Только когда мы создали новую модель, основанную только на основных предположениях, мы смогли добиться прогресса.
Мы провели симуляции, но у этой исходной модели было так много параметров, что анализировать ее было сложно и не особо информативно. Мы были вынуждены спросить себя: в чем суть нашей теории? Только когда мы создали новую модель, основанную только на основных предположениях, мы смогли добиться прогресса.
школ как социальные комплексные адаптивные системы: новый способ понять проблемы внедрения концепции школ, способствующих укреплению здоровья широкое внедрение программ по укреплению здоровья в школах и сохранение как программы, так и ее преимуществ, связанных со здоровьем, оказались сложной задачей. В этом документе сообщается о качественном исследовании, посвященном внедрению программ школ, способствующих укреплению здоровья, в начальных школах Сиднея, Австралия.Он основан на знаниях системной науки для изучения актуальности и полезности концепции «сложных адаптивных систем» в качестве основы для лучшего понимания способов внедрения и поддержки мероприятий в школах, способствующих укреплению здоровья.
 Первичные данные для исследования были собраны путем полуструктурированного интервью с 26 директорами школ и учителями. Дополнительная информация была получена из общедоступных планов управления школами и годовых отчетов. Мы изучили данные из этих источников, чтобы определить, демонстрируют ли школы характеристики сложных адаптивных систем.Результаты подтвердили, что школы действительно демонстрируют большинство, но не все характеристики адаптивных систем социального комплекса, и обнаруживают значительные различия с искусственными и естественными системами. Понимание школы как социальной сложной адаптивной системы может помочь объяснить некоторые проблемы, связанные с внедрением и поддержанием изменений в школах. Эти идеи могут, в свою очередь, привести нас к принятию более сложных подходов к распространению новых программ в школьных системах, которые учитывают разнообразный, сложный и контекстно-зависимый характер отдельных школьных систем.
Первичные данные для исследования были собраны путем полуструктурированного интервью с 26 директорами школ и учителями. Дополнительная информация была получена из общедоступных планов управления школами и годовых отчетов. Мы изучили данные из этих источников, чтобы определить, демонстрируют ли школы характеристики сложных адаптивных систем.Результаты подтвердили, что школы действительно демонстрируют большинство, но не все характеристики адаптивных систем социального комплекса, и обнаруживают значительные различия с искусственными и естественными системами. Понимание школы как социальной сложной адаптивной системы может помочь объяснить некоторые проблемы, связанные с внедрением и поддержанием изменений в школах. Эти идеи могут, в свою очередь, привести нас к принятию более сложных подходов к распространению новых программ в школьных системах, которые учитывают разнообразный, сложный и контекстно-зависимый характер отдельных школьных систем.Ключевые слова
Теория сложных адаптивных систем
Школы, способствующие укреплению здоровья
Сложность
Социальные сложные системы
Рекомендуемые статьиЦитирующие статьи (0)
Полный текст Copyright © 2010 Elsevier Ltd. Издатель Elsevier Ltd. Все права защищены.
Издатель Elsevier Ltd. Все права защищены.
Рекомендуемые статьи
Цитирующие статьи
Центр коллективной динамики сложных систем (CoCo) при Бингемтонском университете
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
Социальная динамика: Использование и расширение агентного моделирования, теории эволюции, теории игр и теории сетей для моделирования, анализа и улучшения поведения социальных систем.Текущие темы исследований включают агентное моделирование социально-экономической динамики в районе Большого Бингемтона; моделирование лидерства, командной работы и принятия организационных решений; и эволюция кооперативных / конкурентных стратегий в социальных системах.
Сетевая динамика: Использование и расширение теории сложных сетей для изучения взаимосвязи между элементами, роста и самоорганизации, а также динамического развития различных сложных сетей. Текущие темы исследований включают моделирование электрических сетей как мультиплексных сетей; механизмы распределенного управления адаптивными электрическими сетями; и применение сетевого анализа к психологическим данным.
Swarm Dynamics: Исследование коллективного поведения и формирования паттернов в массовых популяциях биологических или биомиметических автономных агентов. Текущие темы исследований включают теоретическое исследование морфогенетических коллективных систем; разработка и оценка иерархической оптимизации роя разнородных частиц; и автоматизированное моделирование поведения термитов.
Северо-восточная региональная конференция по сложным системам (NERCCS)
Северо-восточный журнал сложных систем (NEJCS)
Проекты:
◦ Разнообразие, сетевая структура и эффективность коллективного дизайна и инноваций
◦ Коллективное планирование и руководство для U.С. Армия
◦ Сетевое моделирование и анализ психологических / психиатрических данных и процессов
◦ Устойчивость и адаптация в морфогенетических коллективных системах
◦ Измерение сложности и изучение концепций
◦ Эволюционный взгляд на коллективное принятие решений
◦ Обучение социальной сложности и мультидисциплинарный тимбилдинг
◦ Моделирование и прогнозирование коэволюции топологии состояний сложных адаптивных сетей
◦ Самоорганизация крупномасштабных гетерогенных роев самоходных частиц.
Сложные системы в социальных и поведенческих науках
Теория, метод и применение
Эуэль Эллиотт и Л.Дуглас Киль
Науки о сложности предлагают исследователям реальный инструментарий для понимания социальных систем и структур
Описание
Сложные системы в социальных и поведенческих науках обеспечивает сложный, но доступный отчет о науке о сложности или исследовании сложных систем. Все явления в поведенческих, социальных и точных науках обнаруживают определенные важные сходства, характерные для сложных систем.К ним относятся концепция возникновения, чувствительности к начальным условиям и взаимодействия между агентами в системе, которые приводят к непредвиденным, нелинейным результатам. Авторы варьируются от последствий для искусственного интеллекта и вычислений до вопросов о том, как моделировать сложные системы с помощью агент-ориентированного моделирования, до сложных явлений, проявляемых в международных отношениях и в организационном поведении. Этот том станет неоценимым дополнением как для обычного читателя, так и для специалиста и предложит новое понимание этой увлекательной области исследований.
Этот том станет неоценимым дополнением как для обычного читателя, так и для специалиста и предложит новое понимание этой увлекательной области исследований.
Эуэль Эллиотт — профессор государственной политики и политической экономии, а также политологии Техасского университета в Далласе
Л. Дуглас Киль — профессор управления государственными и некоммерческими организациями Техасского университета в Далласе
Похвала / Награды
«В этом отредактированном томе применяется наука о сложности, в частности теория, концепции и принципы сложных адаптивных систем, в качестве интеллектуальной основы для понимания социальных систем и поведения человека.Сборник будет полезен как начинающим читателям, так и специалистам в области динамических сложных адаптивных систем ».
— Наим Капуку, Университет Центральной Флориды
«Эта замечательная книга исследует не только теорию сложных систем применительно к социальным и поведенческим наукам, но также предоставляет подробные объяснения методов, которые применяются и не применяются в динамическом контексте человеческих взаимодействий, бросая вызов самой организации и проведение исследований в области социальных наук.
 ”
”
— Луиза К. Комфорт, Питтсбургский университет«Многие говорят, что открытия в области социальных наук будут доминировать в следующие два столетия (после двух веков физики и биологии, каждое), эта обширная коллекция дает своевременный и современный взгляд на то, что должно произойти. Преобладание вычислительных методов практически полезно, а ссылки на теорию вычислений заставляют задуматься ».
—Мартин Хилберт, Калифорнийский университет, Дэвис,
Подробнее о продукте
Доступен для продажи по всему миру
- EPUB: электронная книга Adobe Digital Editions (с защитой DRM)
В корзину
- PDF: электронная книга Adobe Digital Editions (с защитой DRM)
В корзину
При выборе любого из приведенных выше вариантов формата вы перейдете к соответствующему интернет-магазину для совершения покупки. Цены могут варьироваться в зависимости от интернет-магазина. Пожалуйста, посетите сайт электронного продавца для получения информации о покупке.
Цены могут варьироваться в зависимости от интернет-магазина. Пожалуйста, посетите сайт электронного продавца для получения информации о покупке.
Для получения дополнительной информации о наших цифровых продуктах, включая системы чтения и доступные форматы, посетите нашу страницу цифровых продуктов.
Сопутствующие товары
В корзину
В корзину
достижений в области сложных систем в естественных и социальных науках
Комплексные системы охватывают широкий спектр областей, включая природу, инженерию, биологию, экономику, менеджмент, политику и общество.Сложные явления, которые он исследует, варьируются от явления жизни, представленного клеткой, до колебаний фондового рынка, управления городским движением, предсказания стихийных бедствий и даже взлетов и падений общества. В настоящее время изучением сложности занимаются ученые всего мира.
В последние годы, с постоянным развитием финансовых инноваций, волатильность финансового рынка все более усиливается, и взаимодействие между рынками увеличивается день ото дня.С тех пор, как Марковиц основал теорию портфеля, проблеме управления рисками и принятия инвестиционных решений уделялось все больше внимания и углублялось в исследованиях экономистов всего мира. По сравнению с традиционной гипотезой нормального распределения финансовые временные ряды часто представляют временные, перекошенные, пиковые, толстые и асимметричные фрактальные характеристики и имеют нелинейную сложную зависимую структуру. Следовательно, как точно описать риск портфеля активов имеет большое практическое значение для инвесторов и управляющих активами.
Этот специальный выпуск нацелен на сопоставление оригинальных междисциплинарных исследований и обзорных статей, в которых основное внимание уделяется законам природных, социально-экономических и финансовых сложных систем. Они будут включать не только новые модели, алгоритмы и инновационные приложения, но и практические решения, позволяющие адаптировать общие подходы к естественным и социальным системам.

 7]
7] В таких системах целое — это больше, чем сумма частей, не в конечном метафизическом смысле, а в важном прагматическом смысле, который, учитывая свойства частей и законы их взаимодействия, не является тривиальным вопросом. сделать вывод о свойствах целого. Перед лицом сложности принципиальный редукционист может быть в то же время прагматическим холистом. (468)
В таких системах целое — это больше, чем сумма частей, не в конечном метафизическом смысле, а в важном прагматическом смысле, который, учитывая свойства частей и законы их взаимодействия, не является тривиальным вопросом. сделать вывод о свойствах целого. Перед лицом сложности принципиальный редукционист может быть в то же время прагматическим холистом. (468) Это наиболее очевидно в формальных организациях, где формальные властные отношения связывают каждого члена организации с одним непосредственным начальником и с небольшим количеством подчиненных. Конечно, многие коммуникации в организациях идут по другим каналам, помимо формального авторитета.Но большинство этих каналов ведет от любого конкретного человека к очень ограниченному числу его начальников, подчиненных и соратников. Следовательно, границы отделов играют примерно ту же роль, что и стены в нашем примере с теплом. (475)
Это наиболее очевидно в формальных организациях, где формальные властные отношения связывают каждого члена организации с одним непосредственным начальником и с небольшим количеством подчиненных. Конечно, многие коммуникации в организациях идут по другим каналам, помимо формального авторитета.Но большинство этих каналов ведет от любого конкретного человека к очень ограниченному числу его начальников, подчиненных и соратников. Следовательно, границы отделов играют примерно ту же роль, что и стены в нашем примере с теплом. (475)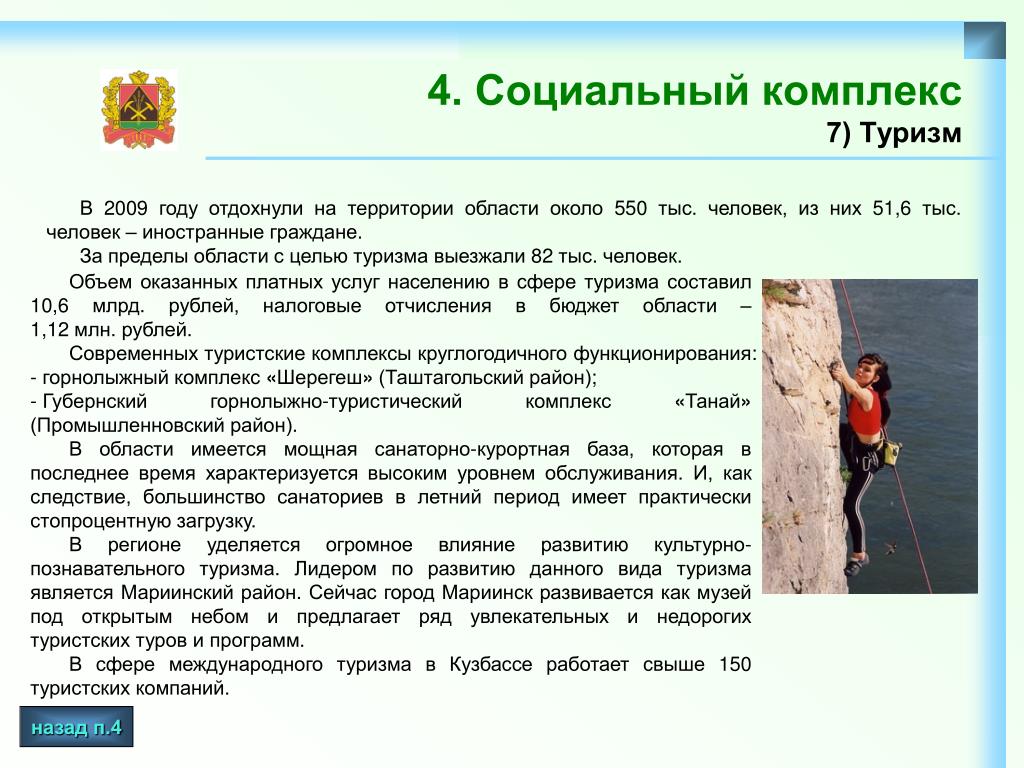 ”
”